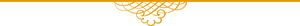«Слог его, ровный, цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным».
Пушкин о Ломоносове
Своё выступление на церемонии вручения Премии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 2017 года Святейший Патриарх Кирилл построил как отповедь неназванному им современному зарубежному критику о якобы наступившей смерти русской литературы. Позволю и себе начать разговор на самую серьёзную тему — о перспективах и векторности развития отечественной литературы с цитаты, близкой по клеветническому содержанию выше помянутой Святейшим.
Так, англичанин Сомерсет Моэм заявляет:
«Именно потому, что у их литературы такая короткая история, русские знают её досконально, как мы Библию короля Иакова. Словесность в России играет куда большую роль, чем в других странах. Что поражает каждого в русской литературе, так это её исключительная скудость. Критики, даже из числа энтузиастов, признают, что их интерес к произведениям, написанным до девятнадцатого века, носит чисто исторический характер, так как русская литература начинается с Пушкина; за ним следует Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Достоевский; затем Чехов — и всё! Люди учёные называют множество имён, но не приводят доказательств, чем они замечательны...»
Действительно, а чем они замечательны? Если уж «русская литература начинается с Пушкина».
Резкие смены политико-социальных периодов в судьбе государства болезненно отражаются на судьбах культуры. Каждая новая эпоха стремится революционно быстро перестроить общественное сознание, и производимая при этом пристрастная перелицовка прошлого под диктат сиюминутного каждый раз разрушает логику последования событий и явлений в жизни Отечества и народа, то есть затрудняет понимание промысла Божия.
Так уж получилось, что до сего дня мы не имеем объективной, академически простроенной, без пристрастных симпатий и вкусовых антипатий, стройной истории русской литературы. Не прослежены непрерывные линии развития школ, стойкие зоны влияний, параллельных поисков и соперничества мастеров, союзов и заимствований их продолжателей, даже нет общепринятых критериев значимости вложений писателей в общенациональный литературный процесс, не выстроена объективная иерархия имён, вне их временной популярности или политической конъюнктуры. Так что сегодня мы всё ещё более веруем сердцем в предназначение русской литературы, чем понимаем умом, в чём её суть.
Зачем это нам? Необходимы некоторые пояснения.
Нация формируется языком. Кровь и почва в этом процессе вторичны. Именно язык созидает народ, через язык в нацию входят и вживаются и новые этносы, и новые пространства. И сам народ меняется языком, посредством которого нацию можно рассеять и мобилизовать, рассечь и возродить.
Речь для человека является не «главным средством коммуникации», а сутью его сознания. В отличие от всех иных тварей, человек разумный мыслит словами, а не картинками, и потому для полноты развития личности словарный запас важен не только количественным наполнением, но и качественным. Умение воспринимать, усваивать, впитывать и воссоздавать литературно-художественную образность возводит сознание личности на следующий по высоте уровень, принципиально столь же отличный от предыдущего, чисто прагматичного, насколько тот разнился с мышлением животных.
Литературный процесс — это процесс национального самосознания. Через и в ходе литературного процесса нация себя видит, себя чувствует, осознаёт и — запоминает. Именно художественная литература является основой, истоком и первопричиной любой цивилизации. В древнейшие, дописьменные времена гимны воспевали герои — так уже самыми первыми песнями утверждалась, узаконивалась иерархия в сложности социума.
Но художественная литература для цивилизации не только изначальность — она её постоянная животворящая сила, её наполненность и рост, её стержень и покрытие. Именно живой, ежедневно прибывающей литературой определяется роль нации в земной истории и действительности. За пределами литературы цивилизации нет, ибо там нет ничего человеческого, только звериное, стихийное, демоническое. И русская цивилизация самобытна, уникальна, отлична от всех иных тем, что в основе её бытия лежат сразу два языка — бытовой и священный. В той же Византии греческий язык, как и латынь для Римской империи, был не сакральным, а общекультурным.
А ещё Господь каждому времени призывает своих свидетелей, ведь литературный процесс — процесс национального самосознания, процесс непрестанного созидания общенародной памяти, на которой возрастает будущее. И если этот процесс пресечётся, то народ просто исчезнет.
Однако именно на такое «пресечение» и указывает нам Сомерсет Моэм, точнее, на разрыв, обрыв, пропасть, на той стороне которой смутно памятуются литераторы из восемнадцатого и более ранних веков, великие поэты и мудрецы, творения которых сегодня читают лишь «учёные люди» да «критики из числа энтузиастов». И действительно, надо, хмурясь и краснея, признать, что в школе мы слышали о Кантемире, о Хераскове, Сумарокове, Тредиаковском и, конечно же, о Ломоносове, но совсем не помним, о чём и в чём велась их «литературная война».
Кто для нас ныне Михаил Муравьёв и Гавриил Добрынин, Иринарх Завалишин и Михаил Чулков, Иван Дмитриев и князь Пётр Трубецкой? Конечно, русскую литературу мы начинаем не от Пушкина, а от Державина, Жуковского, Крылова и Карамзина, но неужели мы, уверенно говоря о тысячелетней истории нашей государственности, при этом историю литературы покорно купируем в двести лет? Неужели мы согласны с тем, что современному читателю уже никогда не понять, а главное — не прочувствовать то, что чувствовали такие же русские люди триста-четыреста-пятьсот лет до нас? Но, правда, ведь что-то же тревожило, озадачивало, вдохновляло и радовало далеко не последних поэтов екатерининской эпохи — епископа Гавриила Бужинского и архимандрита Иакинфа Карпинского? И как нам сегодня ощутить их волнение, непосредственно сопережить в процессе прочтения словосочетаний и речевых оборотов, в которых оно, волнение, ими было изложено? Со-пережить, и только тогда в полной мере уразуметь, о чём они нам поведали.
Понятно же притом, что писатель — свидетель своему времени, он — не учёный-документалист, академично точно фиксирующий вокруг происходящее, а эмоционально, этически воспринимающая и эстетически оценивающая, пропускающая, процеживающая всё через умное, но горячее сердце творческая личность, вдохновением возводящая реалии в художественные образы. Именно художественный образ, а не груда статистики портретирует время для передачи понимания его к следующим поколениям.
И если литературный процесс — процесс национального самосознания, процесс непрестанного созидания общенародной памяти, то как же так получилось, что у нашей литературы «такая короткая история»? Почему в русской литературе «поражает каждого» «её исключительная скудость»? При более чем тысячелетней нашей государственности?
Разрыв литературного процесса — разрыв национальной памяти в восемнадцатом веке — был обусловлен языковой революцией, спровоцированной государственными и культурными реформами государя Петра Алексеевича. Лавина иностранных терминов, а точнее — навал новых, чужеродных понятий, императивов, ментальностей в течение столетия заполнявших русское сознание на голландском, французском, английском, немецком, шведском и иных языках, вкупе с изменением стиля жизни правящего класса и с переустройством властных и общественных институтов по иноземным образцам, обратилась настоящей катастрофой, надрывом, разрывом и раздроблением национального сознания. Кризисом национального мировоззрения.
С середины XVIII века в спорах Ломоносова и Тредиаковского закладывается теория русского правописания. С этого времени нормы орфографии создаются и перестраиваются на научной основе. В усовершенствовании русской графики и орфографии активное участие принимала Академия наук, для чего в 1735 году в Академии было создано специализированное «Российское собрание», на протяжении тридцати лет радевшее «о возможном дополнении российского языка, о его чистоте, красоте и желаемом потом совершенстве».
В августе 1783 года в беседе с императрицей Екатериной княгиня Дашкова подняла вопрос о государственной необходимости содействовать развитию русского языка после того, как он подвергся сильному влиянию языков западноевропейских. Императрица попросила представить записку об открытии для этого специального учреждения, и уже 30 сентября 1783 года утвердила Положение о Российской академии, назначив Дашкову её президентом. Задачами Российской академии ставились: «прежде всего сочинить российскую грамматику, российский словарь, риторику и правила стихотворения». В числе членов Академии, тридцать лет работавших над задачей очищения и обогащения русского языка, был владыка Иннокентий (Нечаев), учёные Румовский, Котельников, Болтин, писатели Державин, Херасков, Княжнин, а также виднейшие государственные деятели — Шувалов, Потёмкин, Безбородко. Именно в их разработках оформился тот русский язык, на котором процвело творчество Жуковского и Пушкина, Лермонтова и Гоголя, воссиял золотой век русской литературы.
В чём суть тогда произошедшего? Дело в том, что в «дореволюционный» период — до восемнадцатого века — русский человек мыслил и жил одновременно в двух языках: бытовом и священном. Бытовой обслуживал коммуникационно-житейские нужды, а священный церковнославянский позволял толковать о высших материях — о вере и смысле жизни, о любви и долге. Именно его и стали вытеснять иностранные слова-понятия под прикрытием информационного навала военных, морских, технических и научных терминов, атакуя мировоззренческие основы традиционного русского сознания, в том числе подменяя православное богословие католической религиозной философией. В современном учебнике «Церковнославянский язык. Грамматика с текстами и словарём» (М. Л. Ремнёва, В. С. Савельев, И. И. Филичев) читаем: «Церковнославянский язык русской редакции на протяжении восьми веков был на Руси литературным языком, реализовавшимся в памятниках разных жанров, существовавшим в ряде вариантов; он являлся элементом русской культуры, это был язык, на котором говорила на Руси церковная и светская мысль. С XVIII века церковнославянский язык становится только языком церкви».
Обвальная модернизация речи расколола общество, всё более отдаляя каждое новое поколение дворянства и от своих родовых традиций, и от самой России. Более того, поствозрожденческая Европа, пережившая религиозный кризис и реформаторский раскол, стремительно теряла основы христианства, утягивая за собой в материализм и даже в откровенный сатанизм выученную на новый манер русскую правящую элиту.
Эту опасность предвидел поживший в Европе Ломоносов, до конца бившийся за сохранение в русской жизни церковнославянского языка как основы не только культовой, но и культурной самоидентификации нации в пространстве: «Народ российский, по великому пространству обитающий, невзирая на дальнее расстояние, говорит повсюду вразумительным друг другу языком в городах и в сёлах. Напротив того, в некоторых других государствах, например в Германии, баварский крестьянин мало разумеет мекленбургского или бранденбургский швабского, хотя всё того ж немецкого народа». И во времени: «...видим, что российский язык от владения Владимирова до нынешнего веку, больше семисот лет, не столько отменился, чтобы старого разуметь не можно было: не так, как многие народы, не учась, не разумеют языка, которым предки их за четыреста лет писали, ради великой его перемены, случившейся через то время».
Разрабатывая механику защиты, хранения и развития церковнославянского языка как языка высших смыслов, Ломоносов продолжал дело Епифания Премудрого, Епифания Славинецкого и Евфимия Чудовского. И в своём учении о трёх литературных стилях Михайло Васильевич определял «высокий штиль» не только «благородными» темами сочинений, но и наибольшим количеством употреблений славянских слов:
«Рассудив таковую пользу от книг церковных славенских в российском языке, всем любителям отечественного слова беспристрастно объявляю и дружелюбно советую, уверясь собственным своим искусством, дабы с прилежанием читали все церковные книги...». «Таким старательным и острожным употреблением сродного нам коренного славенского языка купно с российским отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков, заимствующих себе красоту из греческого, и то ещё чрез латинский. Оные неприличности ныне небрежением чтения книг церковных вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене и к упадку преклоняют. Сие всё показанным способом пресечётся, и российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердится, коль долго Церковь российская славословием Божиим на славянском языке украшаться будет».
Кто бы его вовремя услышал!
Несмотря на то что Закон Божий преподавался в начальных учебных заведениях, что Символ веры, заповеди, молитвы, тропари и небольшие притчи из Евангелия заучивались школьниками и гимназистами наизусть, высшее образование опиралось на иностранные языки. Литератор XVIII века Андрей Кайсаров заметил: «Мы рассуждаем по-немецки, мы шутим по-французски, а по-русски только молимся Богу или браним наших служителей». Двести лет правящий слой, а за ним и разночинная Россия всё более навыкали жить и мыслить без церковнославянского языка, замкнутого в пределы церковных служб, лишённого возможности развиваться самому и участвовать в воспитании, формировании народного самосознания. И никакие оборонительные призывы Шишкова и его «беседников» не могли противостоять тому, что, уходя от иностранщины, литературный язык не возвращался к «штилю высокому», а наоборот всё более приближался к «низкому», простонародному.
И что же тогда вызвало столь мощный, фееричный рассвет нашей литературы? Что явилось источником силы, буквально на глазах двух-трёх поколений перевернувшей вековые представления о мировом культурном лидерстве — ведь в девятнадцатом веке Россия просияла созвездием величайших гениев не только в литературе, но и в музыке, в живописи, в технических и естественных науках? Тема, требующая всестороннего, а может — и прежде всего — религиозного осмысления, здесь не поднимаемая.
Одно можно сказать: прививки из более развитых к тому времени языковых европейских культур двигали русскую словесность вперёд семимильными шагами. Начальные формальные кальки с английской исторической прозы и французской сентиментальной поэзии быстро закреплялись национальными темами-сюжетами, а затем получали и самобытное внутреннее наполнение в описаниях душевного мира героев, раскрывающих православное мировоззрение.
По словам Герцена: «На приказ Петра Великого образоваться Россия ответила через сто лет колоссальным явлением Пушкина». Истинным, единственно настоящим творчеством в православном понимании является преображение человека, его обожение, восстановление в образе и подобии Божием. Творчество же художественное только описывает, фиксирует эту преображаемость языком того или иного вида искусства. Общеевропейские же принципы построения художественных образов, помноженные на секуляризированный словарный запас, более служили шиллеровскому культу чувства, сменявшему вольтерьянский культ разума, но не помогали описать действие благодати... Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, А. К. Толстой, Фет, Тютчев, Майков, Некрасов, Островский, Гончаров, Л. Н. Толстой, Достоевский... Да, наши гении Божьим промыслом прорывались к личной вере, но они уже не могли вернуться в язык исконных русских смыслов... И наступал век двадцатый.
Таким образом, лишаемое опоры не просто на некую традиционную национальную самобытность, а утерявшее литургичность мироосознания, русское «образованное общество» естественно заболевало всеми умозрительными хворями Европы. Как «во всех цивилизованных странах», эмпиризм в академической среде сменялся позитивизмом, агностицизм профессоров перерастал в натурализм студентов, субъективный идеализм вытеснялся материализмом и антропологией. И когда забродил «призрак коммунизма», то в нашей элите уже не нашлось духовного здоровья на сопротивление — даже монархию никто не воспринимал как сакральность. Более того, в самой Церкви угнездилось обновленчество, грозившее реальным расколом, ведь прагматизированное, обытовлённое сознание и в юлианском календаре, и в самом славянском языке уже не видело ничего, кроме некомфортности. Только найдите в бытовом языке слово, равноточное имени «Господь»?..
В советский период церковнославянский оказался не просто изъят из начальной школы — одним из первых декретов новой власти менялась грамматика, чем отсекались «старые книги». Слава Богу, не прошла реформа перехода на латиницу. И опять же особая тема, требующая отдельной разработки и потому здесь опускаемая: именно на двадцатый век, век практически полной утери народным большинством молитвенного сознания, приходится пик стилистического развития русского литературного языка — Куприн, Бунин, Блок, Ахматова, А. Н. Толстой, Набоков, Шолохов, Леонов, Астафьев, Рубцов, Распутин — такого словарного объёма, такого изыска речевого построения у их предшественников в прошлые века не было. Действительно, тут многое требует изучения и осмысления, в том числе и смена приоритетов нашей литературы в начале XIX века с интересов философского на психологический в его конце. И угасание в финале атеистического XX века эпичности как в прозе, так и в поэзии... Нужно бы обсудить — отстаивание советскими писателями нравственных императивов — только ли эксплуатация христианских ценностей идеологами марксизма-ленинизма в противостоянии с окаянством диссидентства?..
Сегодня русский язык вновь подвергается глобальной атаке терминов-понятий. Под внешними, вроде как лишь техническими имплантациями типа «андеррайтер», «мерчендайзер», «девелопер», «хостес» и «траблшутинг», на самом деле устанавливаются барьеры взаимопониманию поколений, и далее для изолированной от опыта старших молодёжи в сокровенных сферах сознания идёт прямая смена понятийных установок. Так «имиджем» вытесняется «образ», «системностью» фальсифицируется «целомудрие», «успешностью» — «счастье». То есть идеал «совершенного человека» христианства подменяется целью «сверхчеловека» антихриста. Подмена всё та же, что и триста, и сто лет назад, но только сегодня у русского человека нет защиты в живущем в нём славянском языке — у него нет незыблемых эталонов смыслов, нет священно-неприкасаемого молитвенного запаса слов-образов, и он беззащитен перед мультикультурным демонтажем «христианского проекта». Десакрализация культуры теперь проявляется не в преследованиях верующих, а в тоталитарном насаждении терпимости, точнее — равнодушия ко всем мыслимым и немыслимым порокам.
Разрыв поколений... Конфликт «отцов и детей» есть обязательная составляющая всякой государственно-народной трагедии. Молодёжь — «движущая сила революций», поэтому устроение взаимонепонимания меж поколениями — особая забота устроителей «цветных» переворотов. И поэтому же конфликт «отцов и детей» особенно страшен в области литературы. Как куратор Совета молодых литераторов Союза писателей России, как организатор и руководитель многих всероссийских и региональных семинаров, фестивалей и конкурсов, ответственно заявляю: в отечественной литературе разрыв поколений обернулся бедой не только в спаде мастеровитости, но, что гораздо тяжелее, профессиональное сиротство разверзлось обнищанием духа. Отсюда и на эпос ни у кого нет дыхания, и душевно-эмоциональная анемия. Новая литература даже не понимает слова «народность». Им кажется, что это нечто занесённое из Советского Союза. Вот и приходится раз за разом разъяснять, что «народность» — один из определяющих признаков русскости в литературе. Что это не только владение культурным достоянием нашей тысячелетней истории, но и высшая форма развитости сочувствия к людям. Ведь в изначально-конечном смысле «народность» — проекция в наш человеческий мир взаимоотношения Лиц Пресвятой Троицы.
Но и старшее поколение инфицировано смысловыми подменами из прошлого века. Из таких закрепившихся деформаций — речевой штамп «духовное искусство». К сожалению, это словосочетание получило широчайшее распространение и твёрдость коллокации, притом что вроде как все согласны, что искусство — по эмоционально-чувственной природе своей — принадлежит не духовной сфере, а душевной! Да, искусство зачастую явно одухотворено, но никак не «духовно»: не почитаем же мы как икону благочестивую живопись, как и сладкие баптистские песенки в нашем понимании не являются молитвами. И обратно: икона не украшение интерьера, псалом не концертный номер. А чувственная экзальтация — не благодатное восхищение.
Духовное — жизнь в Духе, жизнь во Христе, оно не может определяться ни эстетикой, ни этикой! Ибо за девальвацией духовного в душевное сразу и плотское искусство воспретендует на сферу душевного, а демоническое — плотского.
На то и дан нам наш священный церковнославянский язык, созданный святыми Кириллом и Мефодием для высшей цели — церковного прославления Бога и личного общения с Ним. Святитель Японский Николай (Касаткин): «Я полагаю, что не перевод Евангелия и богослужения должен спускаться до уровня народной массы, а наоборот верующие должны возвышаться до понимания евангельских и богослужебных текстов». Да, конечно, знание языка необходимо для всякого воцерковляющегося, без этого невозможно активное присутствие ума в богослужении, невозможно открытие молитвенных переживаний, как личных, так и соборных, общецерковных. Однако возвращение церковного языка в русское сознание — это не только наша православная, сугубо внутриконфессиональная заинтересованность.
Сегодня возвращение церковнославянского языка в бытие нации — необходимость общенационального значения. Воскресными приходскими школами проблема созидания достаточного числа полноценных личностей, способных строить будущее России, не решаема. Введение в общеобразовательную программу основ церковнославянского как основы изучения русской литературы — задача государственная.
Без возвращения двуязычной цивилизационной матрицы тысячелетней России и закон о статусе русского языка загодя нежизнеспособен, и конституционное определение «российской нации» невозможно. Простите, но когда встречаешь это смешение понятий «русский» и «россиянин», просто убивает глухота к родной речи: «русский» — это же понятие историческое, никак не ограниченное славянской генетикой, понятие культурное! А «россиянин» — чисто географическое. «Русский» — давно утвердившееся качественное определение: «русский врач», «русский инженер», «русский учитель», которое всегда и везде означает «настоящий», «подлинный». Как и Русская Православная Церковь. Нельзя же нацию определять только ареалом проживания!
От непонимания роли и значения сакрального языка в самоидентификации личности относительно её русскости и этот педагогический тупик в противодействии массовому отказу молодёжи и детей от чтения художественной литературы. Нечитающие поколения с деградирующей логикой и примитивизацией чувств, с разрастающимся инфантилизмом и социальной безответственностью... И ведь невозможно понудить, силой заставить не просто заучить сюжет «Капитанской дочки» с перечнем имён главных героев, но, главное, залюбоваться красотой пушкинского слога! Для того чтобы воспринимать написанное не только умом, но и сердцем, душой, нужно пробуждение глубинных кодов, через которые смысл читаемого связан с интонацией чтения.
Неразличение молодёжью высокохудожественного литературного произведения и информационного текста в немалой степени обуславливается немелодичностью сегодняшнего мира. Уже пятьдесят лет глобалистский музыкальный фон отторгает всякий национальный мелос, глушит общеевропейскую культуру симфонизма, подчиняя сознание самым примитивным ритмам. А ведь понятие «генетические музыкальные коды» уже столетие используется психологами, изучающими механизмы эмоций в их связи с процессами формирования и преобразования динамических стереотипов. Учёными давно просчитано, в какой степени от звучащей в нас внутренней музыки зависит не только интеллектуально-эмоциональное состояние, но и физиологическая, и даже химическая деятельность нашего мышечного аппарата.
Красота и чистота родной речи, сакральная непреложность её словесных значений, душевное понимание и сочувствие пишущих и читающих через столетия и пространства — и всё это становится доступным в процессе изучения славянского языка, где вскрываются корни безвестнаго и тайны премудрого, а лексика неотделима от мелодики. Сама техника «распевного» церковного чтения — с придыханием, с острыми, тупыми, облегчёнными ударениями, будит генетическую память, она есть путь и врата, вводящие юного читателя в сокровищницы великой русской литературы, в величественные царские чертоги отечественной культуры.
Да! Нельзя забывать и внешнеполитический аспект: церковнославянский как язык православного богослужения сегодня звучит в Болгарии, Сербии, Черногории, Польше, России, Белоруссии и на Украине. Какие бы провокации не разделяли наши народы, пока мы молимся в единомыслии, всегда есть надежда на общее будущее. Не генетика, не географическое соседство и исторические интересы, а единый священный язык есть основа вневременного братства наших народов.