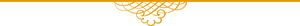Богословие — это слово о Боге, знание о Нём. В многочисленных разделах этой области знания, формировавшейся на протяжении долгих столетий и накопившей огромное наследие, можно найти разную информацию.
Так, догматическое богословие излагает догматы — непреложные и неизменные положения христианской веры. Такие аксиомы количественно ограничены, о них можно рассказать просто, но нельзя упростить.
Предмет нравственного богословия — морально-этическая доктрина, разделяемая православными верующими. Здесь тоже всё достаточно жёстко и безальтернативно.
Пастырское богословие рассказывает о том, что такое духовное окормление. И так далее, и тому подобное.
Иными словами, перечисленные и некоторые другие разделы богословия, безусловно, важны, но рассчитаны они (со всегдашними оговорками) либо на очень узкую, либо на специально подготовленную аудиторию.

И если задать себе вопрос, откуда в первую очередь черпает свои знания о Боге обычный, «среднестатистический» верующий, что из накопленного церковным преданием ему ближе всего, ответ будет совершенно очевидным: из богослужения, из литургии. При этом их композиционный, богословский и главным образом языковой смысл остается непрояснённым, закрытым.
Такая ситуация, сложившаяся из субъективных представлений, мнений, суждений, суеверий, заблуждений и прочего большого количества людей, рождает многочисленные спорные моменты. И надо честно признать: их критическая масса день ото дня становится всё опаснее и деструктивнее.
Следовательно, при трезвой оценке современного состояния, при котором общая богословская образованность находится на крайне низком уровне, именно литургическое богословие является самой актуальной и демократической областью богословского знания, нуждающейся в широкой популяризации.
Предметом литургического богословия по праву считается богатейшее литургическое предание Церкви. Объектом становится так называемый литургический нарратив. Конечная цель изучения видится в формировании литургического благочестия.
А каков же инструмент, орудие литургического богословия: с помощью чего сохраняется его предмет, как реализуется объект и где находится целевой финиш (конечно, относительный)? Ответ опять-таки лежит на поверхности: в церковнославянском языке, который в свою очередь, как кажется, взаимно находит теоретическое и, как это ни странно, прикладное обоснование только в литургическом богословии.

В противной ситуации он так и остаётся сферой, связанной в лучшем случае с красивым, громким, внятным чтением и более или менее (чаще — более) вольными грамматико-смысловыми интерпретациями.
Действительно литургическое богословие, литургику изучают, как правило, согласно церковному уставу совершения богослужения. Помимо этого, они разъясняют — с разной степенью подробности и удовлетворительности — его целостный и сегментный смысл.
Но среди насущных задач литургического богословия никогда не значилась так называемая лингвистическая герменевтика — разветвлённые, научно-обоснованные языковые комментарии. И здесь необходимо откровенно сказать, что при известном интересе, который проявляет церковная и светская общественность к богослужебному языку, например, защищая его (надо сказать, не особо активно) от русификации, он, к сожалению, всегда был на обочине и приходской жизни, и высокого богословия.
Между тем краеугольный камень, начало любого богословия и богословствования — это поиск понятий, категорий, действий, которые бы наиболее адекватно соответствовали вере и опыту Церкви. А где, если не в церковнославянском языке, можно найти так называемые богоприличные слова?
Следовательно, насущная необходимость побуждает задуматься над установлением взаимопроникающих, обоюдных связей между литургическим богословием и церковнославянским языком. Для этого надо ввести в обиход и обосновать комплексное понятие литургического нарратива — литургического повествования, реальное существование которого слишком очевидно.
Главными характеристиками названного явления следует считать динамизм, непрерывность и поступательность, которые без труда можно найти в трёх основных его разновидностях.
Итак, в первую очередь абсолютно самообъективна повествовательная доминанта церковнославянских текстов. В них одно событие активно, калейдоскопически сменяется другим, для них характерны временные и географические переключения.
Самым ярким примером служат, разумеется, евангельские тексты, хронотопная и фабульная конфигурация которых впечатляет.

Но даже при поверхностном анализе исключительную динамичность обнаруживает большинство молитвословий.
Многим приведённая трактовка покажется слишком обобщающей, противоречащей самой сути церковнославянского языка как языка неспешного, описательного, сосредоточенного на духовных «деталях», метафорах и символах, и абстрактно-рассудочного, уводящего в умозрительные и душеполезные области. Но достаточно прочитать, например, «Отче наш», чтобы обнаружить там пульсирующий динамизм и напряжённое действие.
Второй тип литургического нарратива закономерно связан с определённой периодичностью и континуальностью церковного года, богослужения которого делятся на соответствующие круги (суточный, седмичный, годовой). Этот вид повествования, помимо огромного количества текстов, вбирает в свою цельную орбиту пение, обряды, священнодействия. Все они — по отдельности и вкупе — имеют глубокий богословский смысл.
Литургическое повествование, проверенное многими веками, позволяет верующим, среди прочего, одномоментно побывать в разных временах и осознать неслучайность их переклички. Так, например, отрывки из ветхозаветной Книги Иова читаются на Страстной седмице: описание бедствий — параллельно с воспоминаниями о последних земных днях Христа, встреча и примирение Иова с Богом в богослужебном континууме сопрягается с Тайной вечерей и Страстями Господа — именно там и тогда Иов (и всё человечество) получает ответ на мучившие его вопросы.
Свойством подвижности характеризуется, наконец, и восприятие церковнославянских текстов. На его интенсивность, градус, переменчивость оказывают влияние различные факторы: степень знакомства с молитвословием, внутренняя настроенность человека — сиюминутная или укоренённая и другие.

Понятие о внешней нарративности, конечно же, сопрягается с размышлениями о том, что слово о Боге мистично. Данное утверждение никто не собирается оспаривать. Но подлинная, живая мистика не должна превращаться в магию — искусственную и мёртвую. Чтобы этого не происходило, надо совсем немного: любое церковнославянское молитвословие как отправной и конечный пункт богообщения должно быть не только прочувствовано, пережито, но и понято. Нет никакой пользы от вызубренного текста, слова которого, собственно говоря, и воспринимаются-то не как слова (поскольку порой человек даже не может их отграничить друг от друга), а являют собой набор звуков.
Подобный фетишизм, безусловно, сводит на нет всю церковнославянскую сакральность и свидетельствует о кощунственном отношении к богоприличным словам: «паки реку» превращается в «по Кирику»; «отложим попечение» — в «отложим по печению»; «на ны» оборачивается анекдотично-зловещим «наны».
В связи с вышеизложенным возникает очевидная мысль практического характера. Тексты для богослужебного и келейного использования не должны составляться только по принципу «чтобы был и соответствовал уставу». Нужно думать о том, что в них прикровенно присутствует богомыслие: глубокое, чистое и самое главное — кристально понятное.
Известно: чем выше слово, тем оно двусмысленнее, а то и многосмысленнее. Но данное обстоятельство не означает, что перед этими загадочными пластами надо пасовать и, маскируя — более или менее мастерски — элементарное невежество, постараться сделать их ещё волшебнее. Напротив, слово должно быть как можно чётче определено (прежде всего с грамматической и семантической позиций), а затем его надо грамотно вмонтировать в целесообразный контекст, который выражает ясную, продуманную мысль, а не создаёт впечатление дремучего нагромождения или дурной гротескности.
И только тогда можно будет (без ненужной, впрочем, абсолютизации) отнести номинативные единицы к той первичной реальности, по отношению к которой они являются символами, каталогизация и квалификация которых мыслится в качестве первейших целей богословия.
И стоит повторить ещё раз: совершенная сверхъестественность не должна перерождаться в махровое колдовство и мнимую чудодейственность. Первое онтологически присуще любому богословствованию (в том числе и лингвистическому), второе — также принципиально и бескомпромиссно им отрицается.
Динамическая природа церковнославянского нарратива в полной мере сообразуется с сущностью духовного делания — многотрудного, ступенчатого и противоречивого. Одним из важнейших признаков духовного роста является благочестие. Это конгломерат христианской веры, надежды и любви, которые, естественно, независимы от формы и места выражения (в домашних условиях, в храме, в молитвах, в таинствах и тому подобном). То есть: «благочестие на всё полезно». Оно цельно и не ранжируется в своей целостности.

Это бесспорно, но только если речь идёт о уже сформированном, всепронизывающем благочестии. Сложные реалии современной духовной жизни не позволяют говорить о такой экзистенциальной монолитности.
Благочестие как родовое понятие можно раздробить на виды, особо выделив литургическое и даже литургико-языковое благочестие (стоит оговориться, что понятие о литургическом благочестии было введено протопресвитером Александром Шмеманом в 50-е годы ХХ века и вызвало почти полное неприятие со стороны).
Кроме того, опираясь на широкие историко-лингвистические связи, к непременным составляющим благочестия следует обязательно (и непротиворечиво) присовокупить такой компонент, как твёрдое и, если угодно, честное знание. Несомненно, что оно должно воспитываться и приумножаться точно так же, как вера, любовь и надежда.
К несчастью, статус знаний неуклонно занижается в угоду расхожим, полуграмотным, а то и вовсе неграмотным мнениям. И примеры из области церковнославянского языка здесь наиболее показательны, печальны, если не сказать трагичны. Ну почему приходится доказывать (!), да ещё и при снисходительном молчании, что классический церковнославянский родительный падеж множественного числа мужского рода имеет нулевое окончание (апостол, а не апостолов), что Адриан в звательной форме будет Адриане, а не Адриано (поскольку он — не Татьяна и тем более не Челентано)?
Получается, что использование церковнославянского языка наиболее тесно соприкасается с этимологическим, исконным пониманием литургии как общественного служения. В настоящее время он должен стать едва ли не главным мерилом соборности в Церкви, ведь в храм одновременно приходят верующие, которые владеют русским языком — литературным и разговорным — в самой разной мере. Одни бездумно и щедро наполняют свою речь «гнилыми» словами. Другие уже никак не могут обойтись без жаргонизмов. А для третьих (и это отрадно) несомненно то, что, например, канонарх не канонарит (он ведь не пономарь и не канарейка), а канонаршит (так же, как друг — дружит). И все эти люди слышат в церкви церковнославянский язык стилистически однородный, один для всех, язык литургической солидарности.