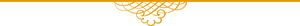Весною 1861 года на мировой участок в 7029 душ не было ни одной школы, исключая Яснополянскую, не пользовавшуюся общим расположением в народе, — не было школ, ежели не считать кой-где устроившихся солдат и причётников, учивших по два, по три и не более шести мальчиков.
При повсеместном чтении Положений, статей о том, что сельские сходы могут принимать меры для обучения грамоте, волостные сходы могут учреждать училища, слова «могут принимать, могут учреждать училища, обучать грамоте» везде были поняты так, что при освобождении велено волей-неволей учить грамоте и заводить училища...
Специально занятый делом школ и убеждённый в том, что дурная школа не то что малополезна, но положительно вредна и отодвигает назад дело народного образования, я со времени открытия волостей и до сих пор противодействовал учреждению волостных официальных училищ всей силой своего морального влияния. Я говорил, что время терпит, что лучше подождать, что сборов и так много, что строение совсем не нужно, что прежде надо найти учителя и узнать, сколько родителей захотят отдать своих детей и платить за них, — и везде в продолжение лета поговаривали об устройстве училищ.
<...>
Подосинская школа. После открытия этих трёх школ прошло более месяца до открытия новых, потому что не было учителей, а я обещал хороших учителей, и общества дожидались. Только самое отдалённое общество в деревне Подосинки, принадлежащее Голицынской больнице, нашло своего учителя и на моё предложение заместить выбранного ими учителя другим объявило, что оно не нуждается в новом и своим довольно. Учитель этот был отставной дьячок, уже лет 20 занимавшийся обучением детей в соседней однодворческой деревне. Он предложил учить дешевле, чем в других школах по предложенным мною правилам: он брал три полтины ассигнац. вместо полтины серебром и благодаря этому средству 3 месяца продержался учителем.
Я посетил эту школу во время её цветения. Когда мы вошли, там всё было тихо. 24 мальчика, чинно сидевшие с вырезными указками вокруг длинного стола, вдруг запели на разные голоса. Во главе всех сидел сын огородника, лет 16-ти, в синем кафтане. Он запевал: «Надеющиеся на ны»; сосед его, водя указкой по засаленной Азбучке, пел слова под титлами: «Ангел, Ангельский, — Архангел, Архангельский» и снова начинал слова под ними: «Ангел» и т. д. Третий — «Буки, арцы, аз — бpa», четвёртый — «Премудрость».
Когда я вошёл в избу, они закричали, потом встали. Учителя не было. Я спросил, зачем они встали, они объяснили, что меня ждали и что так им было приказано. Я попросил их сесть и продолжать. Все начали опять с тех же слов: «Надеющиеся», слова под титлами и т. д. Здесь в первый раз я видел классическую*, старинную школу и в первый раз понял, каким путём выучиваются по этой методе.
В наше время много говорят за и против старинной методы и притом так мало знают, как она прилагается в действительности, что я считаю нужным описать её так, как видел в этой школе и у других специалистов, мастеров обучения грамоте.
Учитель устраивает стол, лавки, назначает время учения, обыкновенно с 8 часов до сумерок. Отцы обязаны снабдить неграмотных детей Азбучками, грамотных — часовником или псалтырём, смотря по степени успеха. Весьма часто родитель покупает или достаёт бог знает какую книжонку вместо Азбучки, иногда не может достать псалтырь, когда мальчик уж начал учить псалтырь, и ученик учит не то, что следовало бы ему по порядку курса. Так, здесь я застал псалтырника, читающего всю уже выученную наизусть азбуку, потому что единственный псалтырь был занят.
Родители дают детям вычурные, вроде славянских букв, вырезанные указочки. Приводя их в школу или на дом к учителю, всегда при ученике просят учителя наказывать, бить и говорят почти одну и ту же обычную фразу, имеющую целью внушить страх мальчику и убедить учителя в том, что родитель передаёт ему свою власть побоев над сыном.
Большей частью в день отведения в школу родители ведут ещё ученика в церковь и служат молебен св. Науму, который должен, по их убеждению, на ум наставить мальчика. Родители и ученик смотрят на будущее обучение как на дело рискованное: дастся грамота — хорошо, не дастся — даром промучают. В каждой деревне есть перед глазами такие примеры.
Ребята приходят в школу все в одно время; пока учение не началось, они должны стоять смирно в сенях или у избы и не разговаривать, ибо ежели 20 человек вдруг начнут разговаривать, учителю это покажется криком, и он их накажет. Входя в школу, все молятся Богу, садятся за книги, вновь крестятся и целуют эти книги. Книга для них есть божество, вроде идолов у чувашей, которое они просят быть милостивым к ним.
Каждому задаётся стишок, который он должен выучить (стишок — это значит строка или две). Заданные вчера стишки он должен повторить. Начинается то самое пение, которое я застал. Учитель поручает старшему смотреть за порядком, сам же большею частью уходит. Порядок состоит в том, чтобы каждый безостановочно продолжал кричать свои 5 или 6 слов. Самый лучший из таких классических* учителей в продолжении дня едва ли раз обойдёт всех учеников, спросит заданный стишок и задаст новый, т. е. час времени в продолжение дня употребит на занятия со всеми. Обыкновенный же приём такого рода учителей состоит в том, чтобы поручать ученье старшему ученику, самому же в продолжении недели заниматься с учениками много три, четыре часа.
<…>
Заучивание стишка продолжается целый день. Единственную перемену — диверсию — составляют спрашивание учителя, соединённое обыкновенно с побоями, и промежутки, когда учитель выходит и ребята начинают баловаться, вслед за чем обыкновенно бывают доносы и наказания. Учитель всегда старается как можно более уравнять учеников. Ежели есть ученики, умеющие писать, он заставляет их твердить старое с тем, чтобы засадить писать уже всех вместе. Так было и здесь.
Процесс и курс учения следующий: выучивают, начиная с азов, по стишку каждый день, потом склады, выговаривая «буки-аз-ба — ба», «веди-аз-ва — ва» (это называется по складам).
На главе складов заучивание под ряд приостанавливается и склады выучиваются два раза: по складам и по толкам. Ученье по толкам состоит в следующем: учитель подходит и говорит: «Сыщи ”ба”», ученик ищет по азбуке, находит и говорит: «Буки-аз-ба — ба»; учитель говорит: «Сыщи ”де”», ученик находит и говорит: «Добро-естъ-де — де».
Выучив склады, заучиванье проходят уже подряд: заглавие, слова под титлами, молитвы, басни, краткая священная история, таблица умножения и т. д. Потом заучивается псалтырь точно так же.
После псалтыря начинают писать, но писать значит совсем не то, что мы понимаем — из букв уметь правильно соединять слова и речи, — писать, по их понятиям, значит уметь красиво выводить скорописные буквы в почти не понятных для них соединениях — срисовывать прописи. Иногда к этому прибавляется выучивание наизусть цифр от 1 до 1000 (чисто механическое, без понятия о нумерации), и тем обыкновенно кончается полный курс учения, который стоит в наших местах гуртом 7.50 р. за выучку и в розницу от 1 р. до 2 р. ассигнац. в месяц.
Я долго не мог понять, каким образом, несмотря на такое учение, некоторые выучиваются-таки читать, и объяснил себе дело только математическим расчётом. В азбуке средним числом бывает страниц 50, на каждой странице до 25 строк; ежели в первое время стишки задаются по две строки в день, а в последнее время — строк до 8 в день, средним числом можно положить задаваемый на день стишок в 5 строк. В 300 дней по этому расчёту должна быть выучена наизусть вся азбука, т. е. почти в год, что и бывает так при старательном, строгом учителе. Год пройдёт ещё на учение псалтыря, год — на искусство срисовывать прописи, и опять три года совпадают с обычным временем, употребляемым старательным учителем на хорошего ученика для того, чтобы его в полную выучку произвесть.
В Подосинковской школе я долго бился в отсутствие учителя, чтобы узнать что-нибудь от учеников. Как только я обращался к кому-нибудь из них, он утыкался в книгу, твердя стишок, и совершенно забывал меня, и опять со всех сторон начиналось: «Надеющиеся на ны» и пр. Я оглядывался, искал живого взгляда и изредка замечал мальчика, оторвавшегося от книги и внимательно и умно смотревшего на меня, — я подходил, спрашивал, но в ту же минуту какой-то туман застилал его глаза, и он снова бессмысленно начинал твердить свой стишок.
Я попробовал спросить св. историю, старший псалтырник, начиная с заглавия «Краткая священная история» — он пропел мне стишков 20, но спутался на сотворении женщины. Чтобы помочь ему вспомнить, я стал спрашивать его, была у Адама жена или нет? Он заплакал.
Наконец, извещённый каким-то услужливым мальчиком, явился учитель, хромой, с костылём, с неделю небритый и с опухшим, мрачным и жестоким лицом. Я не видал ещё старинного учителя — кроткого человека и не пьяницу. Я убеждён, что эти люди по обязанности своей должны быть тупы и жестоки как палачи, как живодёры, должны пить, чтобы заглушать в себе раскаяние в совершаемом ежедневно преступлении над самыми лучшими, честными и безобидными существами в мире...
Как только он вошёл, крик усилился. Я попросил его показать мне, как он учит; он стал подходить к каждому из мальчиков, и я заметил, как у каждого из них щурились глаза и головы вжимались в плечи при приближении небритого лица учителя, которое они чуяли, не оглядываясь на него. Во время учения и распуская учеников он вёл себя совершенно так же, как в старину барщинский староста, с палочкой ходящий на работе за бабами, который при приближении барина покрикивает: «Ну, бабы, бабы!», несмотря на то, что бабы и без поощрения стараются притвориться, что они работают. «Ну вы, куды, тише, порядком!» — кричал он на детей, вылезавших из-за стола, поталкивая их в спины и быстрым, незаметным движением кисти подёргивая за что попало.
Перед тем как выходить из-за стола, каждый из учеников перекрестился и опять поцеловал своё мрачное и карающее божество — книжку — в тот самый стишок, который он учил нынешний день: кто в «Блажен муж», кто в таблицу умножения, кто в слова под титлами или басни Хемницера. Все ещё помолились перед образом. Учитель объяснил мне, что он ещё не выучил их, но выучит петь молитвы пред и после учения. Я очень порадовался этому. Ребята вышли на двор всё ещё тупые и мёртвые, прошли несколько шагов как убитые и только в некотором отдалении от училища стали оживать. И какие прелестные дети! Точно такие же, каких я знаю и люблю в Ясной Поляне, только ещё совсем новые и прекрасные типы...
Вернувшись в избу старосты, я нашёл там несколько мужиков, видимо интересовавшихся знать моё мнение о школе. Учитель был тут же. В школе при учениках я, разумеется, не говорил своего мнения об его учении, здесь же я попросил учителя написать мне что-нибудь. Учитель вышел в другую комнату и прислал мне оттуда записку в три строки, в которой бывший со мной ученик Яснополянской школы поправил, при мужиках, четыре орфографические ошибки. Староста спросил моё мнение о школе, и я сказал, что детям лучше бы вовсе не учиться, чем учиться у такого учителя, но что это, как и всегда, зависит от их воли, и что я в настоящее время не имею в виду для них другого учителя. Мне казалось, что мне совершенно не поверили. Школа продолжалась ещё месяц. Недели две тому назад старшина той волости объявил, что крестьяне недовольны своим учителем и просят другого.
Вскоре после этих школ изъявили желание записать от 10 до 20 мальчиков с платою по полтине и просили рекомендовать учителя общества Богучаровское, Головлинское, Кочанское, Плехановское и Крутенское.
Так как Богучаровская школа была самая значительная по числу учеников и учитель был только один, то открыта только одна школа, другим же объявлено, что учителей в виду не имеется. Все эти четыре общества решили дожидаться и искать такого же учителя, как в Богучаровской школе, и с насмешкой указывали на Подосинковскую. Не дождавшись и не найдя учителя, Головлинское общество поручило учение писарю, который повёл дело по классической* методе; Плехановское частью отдало детей к солдату, поселившемуся в деревне, частью дождалось вновь прибывшего учителя; Кочанское совсем отказалось от своего намерения учредить школу, и кто из родителей отдал детей на выучку к священнику, кто к полуграмотному мужику, исполняющему там должность писаря; Крутенское частью перешло к писарю, частью устроилось в одной из деревень, так же как и в деревне казённых крестьян, о которой было говорено, т. е. нашли себе учителя, который за полтину учит детей, попеременно, как посиделки у девок, переходя из дома одного мальчика в другой.
<...>
Народ имеет твёрдо установившиеся и ясные понятия о том, что такое есть грамотность и как искусство это приобретается. Нашим личным опытом и по сведениям от всех учителей в народных школах без исключения мы убедились, что народ требует, чтобы детей их учили по Азбучкам наизусть, так чтобы отец и мать в состоянии были поверять успехи своего сына.
— Мой ужь «верую» прошёл!
— А мой — «Помилуй мя, Боже», — скажет крестьянин, определяя успехи своего сына и глядя на непонятные для него знаки в книжке.
Он заставит его почитать вечером и будет очень доволен, когда ещё страничка прочтена и перевёрнута. Страх и потому побои он считает главным средством для успеха и потому требует от учителя, чтобы не жалели его сына. Всякий предмет учения вне азбуки (св. история, арифметика) только замедляет, по его мнению, необходимое выучивание азбуки. Все без исключения требуют, чтобы детей их били и учили по Азбучкам и кроме Азбучки ничего другого не учили.
Как только требования их не исполняются, опять везде повторяется неизменно одинаковое явление: рождается раскол, глухой ропот и самые непонятные, безобразные слухи, клонящиеся ко вреду новых школ и приёмов и вообще образования. Является суеверие, тайные ораторы — солдаты и мещане, рассказывающие невероятный вздор.
<...>
*«Классическая школа», «классический учитель», «классическая метода» — в значении: «типичное, характерное».