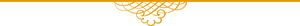В данной статье собраны цитаты из трудов Александра Матвеевича Пешковского — российского и советского лингвиста, профессора, одного из пионеров изучения русского синтаксиса; также он занимался вопросами практического преподавания русского языка в школах.
О фонетике
Многие учителя опасаются, что изучением звуков могут быть расшатаны орфографические навыки, но А. М. Пешковский такие сомнения полностью отвергал:
«Боязнь знания звуков у пишущего — это боязнь головокружения у канатного плясуна, — писал он. — Да, действительно, приучившись балансировать на буквенном канате и заглянувши на миг в бездну звуков, можно потерять голову. Но спрашивается, что лучше: носить всю жизнь повязку на глазах или приучать себя смотреть в эту бездну? Первый способ очень быстр и лёгок (повязка надевается на первой странице каждого учебника и именно на всю жизнь), второй — требует времени и труда. Но какой путь прочнее и вернее ведёт к цели?.. Ведь орфографическое искусство основано на раздвоении наших буквенных и звуковых представлений. Так не лучше ли с самого начала приучить ребёнка к этому раздвоению... чем скрывать от него звуковые образы?»
Ратуя за изучение фонетики в школе, А. М. Пешковский, вопреки распространённому убеждению, что фонетика недоступна детям, утверждал:
«С точки зрения усвояемости звуки представляют, конечно, наилучший из всех других элементов языка материал... Тут всё непосредственно ощущается, даже осязается на себе самом. Я бы сказал, что фонетика — это самый интересный, самый близкий к ребёнку уголок природоведения, и перед грамматикой как таковой она имеет именно все те преимущества, которыми отличаются для ребёнка естественные науки от гуманитарных».
А. М. Пешковский резко расходился с господствовавшей в двадцатые годы XX века тенденцией отрыва обучения орфографии от грамматики, боролся против переоценки роли зрительной памяти:
«Я лично убеждён, что одним зрительным путём наша орфография усвоена быть не может... По самому существу дела правописное искусство должно преподаваться как одно из практических применений грамматической науки, подобно тому, как черчение преподаётся при геометрии».
Эта мысль сохраняет свою остроту и в наше время, когда некоторыми психологами и методистами выдвигается только один речедвигательно-слуховой путь с применением так называемого проговаривания.
О «бухгалтерах от педагогики»
«Все авторы, писавшие о подсчёте [орфографических ошибок], указывают на то, что качественный подсчёт, произведённый на достаточно обильном материале, показал бы сравнительную частость каждого типа ошибки и тем дал бы директивы для составителей программ: сколько времени и внимания уделять тем или иным отделам правописного курса...
Нам очень не хотелось бы, чтобы читатель подумал, что мы хотим лишить учителя возможности и права быть исследователем в тех вопросах, на исследование которых наталкивает его его профессия. Напротив, мы находим такую связь педагогической работы с исследовательской вполне естественной. Но мы ставим два условия:
1) исследовательская работа как таковая, то есть как производимая не для текущих учебных нужд, не должна отнимать ни у учителя, ни у ученика ни минуты и без того скудного учебного времени;
2) она должна производиться в контакте с исследовательскими институтами, а не кустарно, как это делается сейчас (по отношению к подсчётным работам это особенно необходимо, так как только в этом случае результаты работ отдельных исследователей можно будет сравнивать друг с другом).
Как бы то ни было, во всяком случае такого рода работы ничем не будут отличаться от намеченных нами в предыдущем разделе и не будут иметь никакого отношения к тем учебным подсчётам, которые должны занять нас сейчас. Хотя они будут производиться учителями, но сами учителя будут тут уже не учителями, а исследователями.
Обращаясь же к теме данного раздела статьи, мы должны прежде всего поставить вопрос: зачем нужен учителю как таковому подсчёт орфографических ошибок и нужен ли он ему?
Послушаем прежде всего, как говорит об учёте учитель, производивший его:
"На диаграмме № 4 изображены кривые, показывающие правописание отдельных учащихся нынешней восьмой группы за 1926/27 и 1927/28 учебные годы. Каждая кривая наглядно показывает нам историю правописания того или иного ученика.
Ученик Б. за полтора года неуклонно улучшал своё правописание, причём в 1927/28 учебном году он достиг почти полной грамотности... количество ошибок у него не превышает 0,1 %, то есть из 1000 букв и знаков он ошибается менее одного раза (преимущественно в знаках препинания). За учащимися этого рода уже не требуется особого наблюдения, так как они сами справляются с делом.
Наоборот, ученица Г. нуждается не только в особом наблюдении, но и в особых упражнениях. Кривая её правописания общим своим направлением показывает ухудшение её навыков".
И так далее о каждом из учеников.
Всё это как будто бы вполне научно, рационально, целесообразно — и всё-таки мы не можем не сознаться, что в глубине души у нас при чтении этих строк копошится ужасное опасение: а не превращается ли этим путём учитель в бездушную счётную машину, в какого-то бухгалтера от педагогики? Самый главный вопрос, который мы задаём автору, следующий: "Ну, а если бы не было этих подсчётов, процентов, кривых — учитель так и не заметил бы, что за учеником Б. уже надзор не требуется, что за ученицей Г., напротив, нужен усиленный надзор и так далее?"
Если мы верно понимаем автора, выходит, что без подсчётов учитель мог бы этого не заметить и даже как будто бы имел бы право этого не заметить. Но вот с этим мы уж никак не можем согласиться.
Учитель прежде всего должен знать своих учеников как живых личностей и свою группу как живое коллективное лицо, он должен иметь живое представление об общей успешности того или иного ученика независимо от отметок, схем, кривых и прочего. В старой школе очень часто бывало, что учитель мог дать справку родителям об успехах ученика, только справившись с журналом, то есть по отметкам (более аккуратные имели всегда при себе книжечки с отметками).
Не сворачивает ли на эту дорогу нынешнее увлечение школьным учётом? Ведь точный учёт ошибок (по крайней мере в рамках количественных) — это идеально точная отметка, не более. Разница только в том, что тут наряду с индивидуальными отметками практикуется и отметка для всей группы в среднем (средний процент ошибок). Но ведь и из прежних отметок могло быть выведено среднее арифметическое для всего класса.
Мы не говорим, конечно, о том, насколько строго при данной перенаселённости групп и перегруженности учителя можно требовать от него этого живого знания группы. Но мы хотим только сказать, что с общепедагогической точки зрения только на такого живого учителя и можно ориентироваться. Путь же непрерывных подсчётов таит в себе глубокие опасности: увлёкшись подсчётами, учитель может потерять душу своего дела, отойти от ученика как живой личности, превратиться, как мы уже сказали, в "бухгалтера от педагогики"».
***
«Основной вопрос изучения языка в семилетке — вопрос о связи языковых знаний с языковыми навыками... Здесь уместно будет дать краткий критический обзор всех возражений, которые когда-либо делались и могли бы быть сделаны против применения "правил" при обучении правописанию.
1. "Люди, усвоившие правописание, пишут не по правилам, а автоматически".
Но из этого совсем не следует, что первоначально правила не были нужны. Процесс правильного письма принадлежит к процессам, называемым в физиологии "привычными", а сущность таких процессов в том и состоит, что из руководимых сознанием и организуемых на почве личного опыта и знакомства с опытом взрослых они постепенно делаются автоматическими.
Мы автоматически одеваемся ... , автоматически запираем и открываем замки, ... здороваемся и прощаемся установленными телодвижениями и словами и так далее, и всему этому мы в своё время учились, и притом нередко при прямом вмешательстве взрослых, объяснявших нам, что при встрече со знакомыми надо наклонять голову и тому подобное. Это были своего рода "правила" техники и социального поведения, отличавшиеся от правил правописания только большей наглядностью и меньшей сложностью.
Даже математические процессы сложения, вычитания и даже наиболее сложные из них — дифференцирования и интегрирования — производятся в результате постоянной практики почти автоматически, часто со смутным представлением о когда-то выученных правилах и ещё чаще, к сожалению, с полным забвением рациональных основ этих правил. И именно с процессом математического действия лучше всего сравнить процесс правильного письма, так как и тут сперва была рациональная основа, затем правило и, наконец, автоматизм.
2. "Правила правописания всегда очень сложны и содержат очень много условий одновременно; так как удержать все их в голове нет возможности, а забвение хотя бы одного из них неминуемо влечёт за собой ошибку, то писание „по правилам” чаще должно приводить к ошибке, чем к верному письму; так, ученик, выучивший правило о том, что в окончании творительного падежа единственного числа прилагательных пишется -ым, -им, а предложного единственного — -ом, -ем, но забывший, что дело идёт именно о прилагательном, может написать „стульям” вместо „стулом”; забывший, что дело идёт о единственном числе, может написать „добром людям” вместо „добрым” и так далее".
В этом крайне парадоксальном возражении правила предполагаются как механический конгломерат условий, а не как живые ассоциативные целые, усваиваемые именно в этой целостности и в системе всего языка и всего правописания.
Рассуждение это похоже на следующее: житель большого города никогда не сможет безошибочно воспользоваться трамваем для передвижения из одного нужного ему пункта города в другой, так как для этого необходимо запомнить огромное количество условий: где сесть, с какой стороны сесть, какой номер выбрать, ... наконец, где и с какой стороны выйти, причём в случае пересадки в пути условия удваиваются в числе <...> И тем не менее каждый турист знает, что, просидевши два часа над планом Парижа и над расписанием путей сообщения в нём, он сможет свободно, без расспросов, пользоваться всеми этими путями, хотя бы он и очутился в Париже впервые. И это потому, что и план и расписание улягутся в его голове в систему, а не будут конгломератом механически нанизанных друг на друга фактов.
Грамматическая же система языка и применившееся к ней в той или иной мере правописание являются, конечно, гораздо более стройным единством, чем план города в сочетании с трамвайным расписанием.
3. "Правописание наше заключает в себе огромное количество фактов, не обслуживаемых никакими правилами (как „баран”, „собака”), и опыт показывает, что эти факты всё же усваиваются. Французское и английское правописание уже на 9/10 состоит из таких фактов, и однако выучиваются же французы и англичане писать правильно".
Но это возражение доказывает только, что обучение по правилам не есть единственный способ обучения правописанию, чего в настоящее время ни один здравомыслящий методист и не стал бы утверждать.
Установить же полную бесполезность правил на почве этого возражения можно было бы, только показав путём статистического обследования, что усвоение орфограмм, не обслуживаемых правилами, идёт при равных условиях затраты времени на него столь же быстрым темпом, с тем же процентом достижения и с той же прочностью получаемого навыка, как и усвоение орфограмм, обслуживаемых ими.
Пока это не показано (а есть основание предполагать, что это никогда и не сможет быть показано, так как непосредственный опыт учителей как раз говорит за большую медленность и трудность усвоения орфограмм, не обслуживаемых правилами), возражение это бьёт мимо цели.
Что касается французской и английской школы, то, конечно, невозможно экспериментально создать равенство её во всех прочих условиях с русской, так что само по себе сравнение величин времени, тратимого ими и нами на обучение правописанию, ещё ничего не говорило бы. Не без значения всё же кажется нам тот факт, что именно французская и английская школа тратит колоссальное количество времени на обучение правописанию и что нигде мы не встречали столь частых рецидивов орфографической безграмотности у взрослых, как именно во Франции и Англии.
Укажем, наконец, на общепризнанный факт огромной разгрузки наших орфографических мучений недавней реформой правописания и спросим себя: какой из двух „столпов” этой реформы больше нас разгрузил — устранение ѣ или устранение і? Двух ответов на этот вопрос быть не может <...>
4. "Есть ученики, не знающие совершенно правил, но пишущие правильно".
Возражение это отметается простым указанием на то, что правописание — искусство. А во всяком искусстве возможны чисто интуитивные достижения. Немало есть музыкантов-самоучек, играющих без нот, „по слуху”, даже транспонирующих слышанное в другой тон, с оркестра на рояль и так далее. И никому ещё в голову не приходило отрицать на этом основании пользу знания нот и теории музыки.
5. "Есть ученики, прекрасно знающие и понимающие правила, но пишущие безграмотно".
Возражение это упускает из виду, что обучение „по правилам” отнюдь не состоит из одного только внедрения правил в сознание и память учащегося. Само собой разумеется, что надо учить и процессу применения правил к практике, и это достигается путём сложной системы упражнений, задач и так далее.
И, конечно, лица, грамматически одарённые, но орфографически как раз бездарные (например, чисто слуховой тип при общей способности к отвлечённому мышлению), окажут как раз наибольшее количество препятствий учителю в этой второй части его работы над правилами и наименьшее количество препятствий в первой части. Но это не вина правил самих по себе.
6. "Обучение по правилам требует (как это только что выяснено) специальной тренировки в применении их, а эта последняя ведёт к искусственному тексту, насыщенному соответствующими языковыми фактами, чем наносится ущерб нормальному речевому и общему развитию ребёнка".
Но, во-первых, обучение по правилам не неизбежно связано с искусственным текстом, а только требует его для своего наилучшего осуществления. Тренироваться в применении правила можно (хотя это с нашей точки зрения и менее желательно) и на любом литературном тексте, увеличивая соответственно лишь его объём.
Во-вторых, это возражение выходит из пределов методики правописания и указывает лишь на минусы этого метода для других отделов русского языка. Но в таких случаях всегда все минусы должны быть сбалансированы со всеми плюсами, и только цифра конечного дефицита могла бы оправдать возражение. Однако вряд ли кто-либо когда-либо смог бы здесь вывести эту цифру.
В-третьих, и это самое главное, без специально подобранного текста не обходится, как это показывают первоначальные книжки по правописанию, и мнемонико-автоматический метод, так как и он требует систематизации материала. Если бы когда-нибудь был написан учебник для той части нашего правописания, которая не обслуживается правилами, то в нём пришлось бы обучать орфограммам так, как обучают словам при преподавании иностранного языка, то есть вводя каждым уроком определённое количество орфограмм и не переходя к новым орфограммам до полного усвоения предыдущих (замечательно, что такого рода учебник, диктуемый самым существом дела в этой стороне правописания, никогда и никем ещё, насколько нам известно, не был написан). А это опять-таки требовало бы специального текста <...>
Кроме того, без экспериментального речевого материала немыслимы и какие-либо наблюдения над языком, как это будет ниже выяснено. Следовательно, перед нами здесь такого рода минус (если только признавать его минусом, что тоже ещё спорно), мечтать об устранении которого было бы совершенно утопично.
Таким образом, как видит читатель, все возражения против "правил" легко опрокидываются контрвозражениями. Это уже само по себе, принимая во внимание многовековое их бытие в школе, заставляет относиться к вопросу более осторожно».
Соотношение догматического и эвристического подходовв обучении родному языку
«И если ко всякому труду мы должны подходить, как это теперь поставлено во главу угла, с планом максимальной его рационализации, то почему только учиться писать мы должны так же, как учатся птицы петь; волки — задирать овец и так далее (то есть, в сущности, либо совсем не учиться, либо учиться исключительно показом)?
Нам могут возразить, что не все правила так просты, так широки в охвате орфографических фактов и так свободны от исключений. Но это возражение не опровергает самого метода, а только его с известной стороны ограничивает. Рядом с рационализацией всякого дела всегда возможна карикатурная его рационализация, по сравнению с которой просто, "не мудрствующее лукаво", чисто зоологическое выполнение работы может оказаться предпочтительным...
Итак, необходимость руководствоваться при первоначальном усвоении правописания орфографическими правилами, целиком базирующимися на грамматических (или, как в нашем основном примере, фонетических) соотношениях языковой системы, категорически-императивно относит начало изучения этой системы к первому году трудшколы. Само собой разумеется, что самых методов этого изучения это ни в какой мере не предопределяет. Обучение правописанию "по правилам" отнюдь не предполагает непременно догматического преподнесения ребёнку этих правил, а тем менее тех языковых положений, с которыми эти правила соотносятся. Напротив, учитывая всё те же "антидетские" свойства языковедения, о которых было сказано в начале статьи, мы должны сказать, что чем больше будет заинтересован ребёнок в деле изучения языка, тем меньшую психическую травму причинит ему это диктуемое необходимостью привитие чужеродных элементов к его психике. А заинтересован он, разумеется, будет тем больше, чем больше сам будет участвовать в этом изучении. Пусть интерес к грамматике искусственен, несвоевременно привит учителем и так далее. Но всё-таки раз уж грамматика нужна, то пусть лучше будет хоть такой интерес, чем отсутствие всякого интереса. Если выводить законы языка из языковых данных ребёнку трудно, то заучивать эти законы, данные откуда-то сверху, для него уж прямо мучительно.
Впрочем, последнее замечание требует оговорки. Опыт показывает, что фанатическое применение активно-трудового метода ведёт к тому же краху, что и всякий фанатизм. Нельзя забывать, что всякое "открытие" требует времени. Современному ребёнку некогда открывать все Америки. Если и признать, что эвристический элемент по вышеизложенным соображениям в изучении родного языка должен играть немалую роль, то всё же и здесь для него есть определённый предел. Кое-что непременно должно даваться сверху, так как иначе ученик не успеет пройти в школьные годы курс правописания. А если вспомнить, что само правописание есть не более как средство для всего дальнейшего и что наблюдения над языком являются таким образом на ранней стадии обучения лишь средством к средству, если учесть, кроме того, что самый путь наблюдений над языком избирается нами ради выигрыша времени по сравнению с мнемонико-автоматическим путём, то невольно является желание ещё более "нажать" на эту сторону дела в направлении к догматизму. Начертить конкретные границы между вмешательством учителя и самодеятельностью ученика в рамках данной статьи, конечно, невозможно. Но нам кажется, что можно вообще определить их так: догматизм возможен и необходим до той меры, в какой он уже начинает убивать интерес к делу».
Эксперимент в наблюдении над текстом
«Не меньшим фанатизмом и педантизмом было бы и стремление провести все наблюдения над языком в их чистом виде, без всякой примеси эксперимента.
Опыт трёх вышедших пока учебников лабораторно-хрестоматийного типа (автора этих строк, Фридлянда, Шалыта и Ушакова, Смирновой и Щепетовой), равно как и одного дореволюционного учебника того же типа ("Русский язык" Новиковой), показывает, что наблюдения над языком неразлучны с экспериментом.
Так, наблюдая на каком-нибудь тексте формы времени глагола, мы естественно не только сопоставляем формы разных времён данного текста друг с другом, но и образуем к каждой форме две других, с ней соотносительных (например: "я пригласил вас, господа, для того, чтобы сообщить вам пренеприятное известие" — "я приглашаю вас, господа..." — "я буду приглашать вас, господа..."), и заставляем ученика на этом сопоставлении всех трёх форм от одного и того же глагола вскрыть значения времён. Это обычно называется "наблюдением", но в сущности это уже эксперимент, так как здесь производится намеренное изменение фактического явления речи для целей изучения.
В некоторых случаях экспериментирование идёт ещё дальше, создавая факты, в языке совсем отсутствующие. Так, разъясняя согласование прилагательного с существительным, мы обычно спрашиваем: можно ли сказать "добрый ночь", "зелёная дуб" и так далее? Всякий педагог знает, что такое экспериментирование не только экономит время, но и даёт гораздо более яркую картину данного явления уму ученика, чем какую может дать чистое наблюдение.
И однако нам приходилось слышать протесты против такого экспериментирования во имя всё той же святой "естественности" и опасения, как бы это не испортило речи учащихся. Но нам думается, что ни один русский ребёнок не начнёт говорить "зелёная дуб" до тех пор, пока окружающая его языковая среда не начнёт так говорить, и аналогия с так называемой какографией не имеет здесь никакого применения.
Что же касается принципа благоговейного отношения к авторскому тексту, то он нам кажется в этих случаях доведённым до идолопоклонства».
Развитие литературной речи
«От связи языковых знаний с навыками правописания перейдём прямо к связи их с навыками устной и письменной литературной речи. <...> Здесь уже нам не придётся апеллировать к официальным программам (в которых эти навыки с языковым знанием совсем не связаны) и к мнению большинства, а придётся отстаивать свою собственную позицию, отчасти даже вразрез с большинством.
Вопрос этот вообще гораздо более спорен, чем предыдущий. По большей части самая задача развития литературной речи прячется под более общим термином простого "развития речи", чем она, несомненно, сильно затемняется.
Преодоление природной застенчивости, практика "говоренья" и "писанья", "развязывание" языка и пера — вот как несложно представляется нередко педагогам эта задача. "Расскажите о том-то и том-то", "напишите то-то и то-то" — вот обычная форма упражнений в "развитии речи" (кроме самых ранних лет обучения, где практика более разнообразна).
Что всякое грамматическое упражнение есть тем самым упражнение в развитии речи, это немногими признаётся и многими оспаривается. А между тем, по нашему глубочайшему убеждению, это именно так.
Всё дело в том, что, подменяя "развитие литературной речи" простым "развитием речи", методисты роняют ядро вопроса, оставляя одну его шелуху. Если бы литературная речь коренным образом не отличалась от народной, то и самой задачи "развития речи" перед школой не стояло бы, так как речь ребёнка нормально развивается от общения с языковой средой, и никакого педагогического вмешательства этот процесс сам по себе не требует.
Далее, если видеть все отличия литературной речи от народной в отсутствии диалектизмов, как это делают многие педагоги, то услуги грамматики (равно как и систематического изучения словарной стороны языка) опять-таки не понадобятся: диалектизмы легко устраняются живым примером учителя и правильно говорящих учеников, влиянием книги и так далее, то есть всё тем же воздействием организуемой учителем языковой среды.
Но дело-то всё в том, что литературный язык есть не только язык образованных классов, а есть прежде всего язык самой литературы и науки. Ребёнок, выросший в интеллигентской среде, говорит абсолютно без диалектических примесей, но владеет ли он литературным языком? По нашему мнению — лишь постольку, поскольку он верно понимает всё читаемое (не только в художественной, но и в научной и публицистической области), поскольку он способен сделать грамотно доклад, написать сочинение, не искажая литературных форм и так далее.
Короче говоря, обиходная речь, речь детской площадки, спальни, кухни, огорода и так далее не есть ещё литературная речь в полном смысле этого слова, хотя бы в ней и не было диалектической примеси. В ней нет основных признаков литературной речи: богатства словаря и сложности синтаксиса.
Если мы условимся именно так понимать термин "литературная речь", то задача развития её неизмеримо осложнится. Между литературным наречием каждого языка и его народными наречиями в этих двух пунктах — глубочайшая пропасть, а между всеми литературными наречиями всех языков земного шара — полное сходство».
***
«Сложность литературного синтаксиса и невозможность здесь живого языкового воздействия (потому что многоэтажными книжными периодами мы всё-таки никогда не говорим, мы только пишем ими и читаем их) неотступно требуют грамматической помощи.
Программы отмечают необходимость знакомства со строем сложного предложения для расстановки знаков препинания. Но что такое правильная расстановка знаков препинания внутри сложного предложения, как не свидетельство о том, что писавший правильно разобрался в том, что написал? Ведь знаки препинания хотя и условны, но совсем не в том смысле, как буквенная орфография. Они теснейшим образом связаны с логико-психологической и синтаксической стороной речи (по большей части через интонацию как их внешнее проявление).
Школа учит знакам препинания и думает, что для этого необходимо учить синтаксису. Но с равным правом можно было бы утверждать, что, для того чтобы научиться литературному синтаксису, надо научиться знакам препинания. Это одно и тоже. И то и другое достигается одним цельным процессом грамматического анализа.
Пользы грамматических занятий для овладения литературной речью обыкновенно не замечают потому, что она маскируется более наглядной пользой — орфографической, ставимой к тому же обычно как единственная цель изучения. Мы уже не говорим о тех специальных особенностях литературного синтаксиса, которые легко укладываются в грамматические формулировки (например, необходимость общего подлежащего при деепричастии, необходимость согласовать постпозитивное обособленное прилагательное с предшествующим ему существительным, от чего обиходная речь свободна, так как она совсем не употребляет таких прилагательных, и так далее). Тут опять у педагога выбор между обучением языку "как птицы поют" и рационализацией. И выигрыш времени, приносимый последней, тот же.
Вопрос об отношении изучения языка к навыкам стиля наименее разработан в литературе, как и вопрос о самих навыках этого рода. Но сама природа речевого стиля как целевого использования определённых свойств языка говорит за то, что предварительно необходимо знакомство с этими свойствами, то есть изучение языка».
Роль грамматики в обучении русскому языку
«Основной вопрос изучения языка в школе, вопрос о связи этого изучения с достижением языковых навыков решается нами положительно: для важнейших языковых навыков языковые знания не только просто полезны, а и прямо необходимы, как для навыков математических вычислений — математические знания. Это определяет наше отношение к мечте неограмматистов о "чистой" грамматике, о переносе грамматики в старшие классы и так далее.
Как это ни горестно нашему собственному лингвистическому сердцу, мы сознательно отсылаем новую, реформированную грамматику на то же место, на котором долгие века пребывала в школе и традиционная грамматика, — на место служанки, только уже не служанки одного правописания, а служанки всех языковых навыков, вместе взятых. Мы не только не освобождаем её от её службы, но, напротив, нагружаем её целым рядом новых обязанностей.
Мы знаем, что нам укажут всё на то же спасительное чутьё и скажут: "Дети это прекрасно чувствуют". Но ведь и в старой школе дети чутьём побеждали все несообразности старой грамматики, ведь нельзя по чистой совести сказать, что они её только зубрили и ничего в ней не понимали. Чутьё и там всё выравнивало, всё исправляло и разъясняло. И если мы сведём и сейчас всё к чутью, то не напомнит ли это несколько "разбитого корыта"? В чём же тогда выразится методический прогресс?»