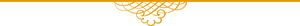Мы знаем Владимира Фёдоровича Одоевского прежде всего как писателя. Однако не меньшую роль в его жизни играла и педагогическая деятельность.
Активно занимаясь благотворительностью, князь Одоевский возглавил «Общество детских приютов» в Петербурге. Он содействовал открытию приютов и лично разрабатывал для их воспитанников учебные пособия. В качестве члена учёного комитета Министерства государственных имуществ Владимир Фёдорович занимался учебной частью сельских приходских училищ, создавал учебные книги для начального обучения крестьян, способствуя развитию грамотности в народе. Также Одоевский заведовал учебной частью Мариинского института благородных девиц, активно работал с педагогами, обучая их методике начального преподавания.
Общее образование В. Ф. Одоевский считал предшествующим всякому специальному, а важной задачей педагогики видел не только обучение наукам, но и воспитание, «приучение ученика прежде всего быть человеком».
***
«Нелепо говорить ребёнку о глаголе, начиная с известного определения: "Глагол есть часть речи, которая выражает действие или страдание".
Заставьте ребёнка просто спрягать сперва один глагол, потом другой; приучите его к понятию о числе и роде посредством присоединения к глаголу местоимений; к понятию о временах посредством слов "сегодня", "вчера", "завтра"; к форме однократной и учащательной посредством слов, выражающих действие однократное или учащательное.
Ребёнок поймёт вас совершенно, тогда как ни один из ста детей не поймёт ясно, какие звери подразумеваются под метафизическими терминами "действие", "страдание", "состояние"; когда вы таким образом проспрягали с ребёнком по нескольку экземпляров из каждого семейства глаголов, вы этим упражнением приучили его не только к разным изменениям глаголов, но и, незаметно для него самого, к привычке правильно выражаться; между тем вводите в эти упражнения мало-помалу технические термины и, наконец, если угодно, заключите вышесказанным определением глагола; иной ребёнок выведет его сам. Но с другой стороны, очевидно, что ребёнок и не сделает этого вывода, и не приучится правильно выражаться, если вы оставите его бессознательное понятие о глаголе неразвитым.
Точно так же в физике вы легче объясните ученику различные свойства тел, помогая ему осмотреть какой-либо предмет, нежели начав с определения общих свойств тел, как обыкновенно начинаются учебники. Но редкий ребёнок сам, без всякой помощи, посмотрит все эти свойства в видимом им предмете.
Точно так же, например, ботаника недоступна тому, кто начнёт прямо с классификации или с анатомии зерна, и, напротив, делается весьма лёгкою тому, кто осмотрит несколько экземпляров растительных семейств; но необходимо (если предпочитается кратчайший путь кривому), чтобы кто-либо указал ему удобнейший способ смотреть и вести частные наблюдения в той постепенности, которая доводит до общих формул, способствующих памяти, и которые в свою очередь делаются пособием для дальнейших успехов знания».
***
«Занимайтесь или не занимайтесь ребёнком, учите его или не учите, но с четырёх лет [Владимир Фёдорович приблизительно обозначал этот возраст, сейчас мы знаем, что это происходит гораздо раньше] он уже воспитывается — если не вами, то самим собою и всем его окружающим: словами, которые вы произносите, не думая, что они им были замечены, вашими поступками, даже неодушевлёнными предметами, которые случайно находятся вокруг него. Всё на него действует и оставляет неизгладимое впечатление в детской душе, правильное или неправильное — это зависит от случая и обстоятельств, в которые ребёнок поставлен.
Это наблюдение не новое; оно привело к заключению о необходимости давать пищу ранней восприимчивости человека; эта теория в свою очередь породила новое заблуждение: детей приняли за взрослых и посадили их не только за грамоту, но даже за грамматику, арифметику, географию, историю, мифологию. Кто из нас не учил на память склонений и спряжений, басен, тысячи определений, демонстраций, аксиом, сентенций относительно вовсе недоступных ребёнку предметов и понятий, целых страниц из аббата Миллота и не помню из какого-то трактата о мифологии?
Результат был тот, что вся эта ранняя наука была бесплодна, что ребёнок не поднимал тяжести, на него налагаемой, что помимо этого официального воспитания он снова воспитывался сам собою, незаметными для воспитателей обстоятельствами, с тою разницею, что теперь он или получил отвращение к науке, или, придя в возраст, замечал, что его всему учили, кроме того, что ему нужно для дальнейшего образования, и что ему остаётся переучиваться вновь. А между тем переучиваться трудно и возможно лишь до некоторой степени. Следы такого направления в общественном и преимущественно в домашнем воспитании, часто нелепом и всегда одностороннем, остаются часто неизгладимыми; ибо человека можно направить, но не исправить; человек исправляется лишь сам собою, то есть когда сам сознаёт необходимость своего исправления.
Замеченная нелепость такого направления привела к новому заблуждению — к стремлению обращать науку в забаву; отсюда: тысячи картинок, забавных книжек, игрушек, которые и доныне благополучно существуют и поддерживаются спекуляциями нашей эпохи иллюстраций [спекуляция здесь — умозрительное рассуждение, лишённое ссылок на опыт и наблюдение]. Впрочем, цель не переменилась: всем хотелось как можно скорее набить голову ребёнка фактами или сентенциями, как будто сумку.
Следствия такого направления понятны и очевидны: ребёнок видит игрушку, картинку и тем и ограничивается; видеть под игрушкою мысль есть такой процесс, для которого у него ещё не приготовлено снаряда. Снова ребёнок помимо официального воспитания воспитывался сам собою, то есть употреблял свой снаряд совсем над иными предметами, на случай, без всякого рационального последования и издерживал без пользы свои способности и время, как богатый дикарь, который сыплет сокровища и нуждается в необходимом.
Если сими двумя способами умственные силы не ослаблялись в некоторых детях, то это происходит от счастливого стечения обстоятельств, независимо от усилий воспитателей и часто вопреки сим усилиям».
***
«Дитя не может научиться из одних книг всему тому, что ему нужно знать. При книге необходимы ему и объяснения, и замечания искусного руководителя, который бы заставлял его беспрестанно вникать в смысл прочитанного и помогал, таким образом, его разумению.
А сколько есть таких познаний, которые нельзя приобрести из книг, сколько ни читай, и которые очень легко и неприметно для нас самих приобретаются нами в детстве из разговоров окружающих нас!
Притом же в воспитании играет большую роль слово "кстати". Нужно сообщать ребёнку каждое новое сведение именно в тот момент, когда он готов воспринять его, то есть когда любопытство его возбуждено в сильной степени каким-нибудь предметом и в собственной душе его возникают вопросы по поводу этого предмета. Какое-нибудь явление, какой-нибудь новый, невиданный ещё предмет поражает внимание ребёнка, он в ту же минуту хочет знать, что это такое, и обращается с вопросом к окружающим его.
Если вы вместо словесного объяснения дадите в руки ребёнка книгу, из которой он может узнать то, что желает, он не станет её читать. Если же он и сделает это, книга не удовлетворит вполне его любопытства; она возбудит в нём много новых вопросов, на которые он у вас же потребует снова ответа.
Но кроме передачи познания в скольких других отношениях важно для наставницы искусство говорить с детьми. Живое слово может производить могучее действие на всё внутреннее развитие ребёнка, на развитие умственное, эстетическое, нравственное и религиозное. Слова, обращённые к детям родителями или наставницею, возбуждают в детской душе или добрые, или дурные чувства, сообщают ей или светлый и правильный взгляд на вещи, или взгляд ложный и превратный. Нравственные и религиозные убеждения внушаются детям посредством примера и посредством живого слова. Слово, когда оно искренно, когда оно согрето неподдельным одушевлением и когда притом оно сказано кстати и приноровлено к детским понятиям, может сильно и благотворно подействовать на внутренние чувства ребёнка. Например, простой, но одушевлённый рассказ о каком-нибудь прекрасном или дурном поступке возбудит в детской душе энтузиазм к прекрасному и негодование к дурному, а такие чувства, как бы ни были они мимолётны, благотворно, освежительно на неё действуют и оставляют в ней глубокие следы.
Старается ли наставница поощрить к чему ученицу или остановить её, хвалит ли она её за хороший поступок или порицает за дурной, всегда и при всяком случае очень важно для неё уметь говорить с детьми языком внятным и убедительным для них, который бы приковывал их внимание к предмету разговора и проникал им в душу».
***
«Очень ошибаются те наставницы, которые полагают, что разговоры с детьми не требуют с их стороны особенного искусства; что тут всё дело в хорошем намерении и ценном содержании, а не в способе выражения.
Нет спора, что в основании каждого слова, обращаемого к детям, должны лежать прежде всего добрая цель и умная мысль. Но этого одного ещё мало. Не всякое слово, сказанное с хорошим намерением, производит те результаты, которых ожидали от него наставницы. Случается часто, что совет, данный наставницей с самыми благими намерениями, замечание, сделанное ею с полным убеждением, что оно необходимо и полезно, производят на ученицу действие, совершенно противоположное тому, какого ожидали наставницы, или не производят никакого действия. Ученица или получает вдруг желание поступить наперекор тому совету, или оставляет его без всякого внимания как скучную, ни к чему не ведущую историю, которую она выслушала поневоле и из которой ничего не постаралась выполнить.
Ученицу нельзя в этом винить: иногда наставницы делают наставление в таких тёмных и невнятных для ребёнка выражениях, что ученица, несмотря на всё своё желание понять её, не может взять в толк, в чём дело, или выводит из слов наставницы заключение, совершенно превратное тому, к которому они должны были привести её.
Оные наставницы полагают, что вне уроков им не о чём говорить с детьми, кроме тех случаев, когда нужно сделать выговор или остановить в чём-нибудь ребёнка. На вопросы же, беспрестанно порождаемые детским любопытством, можно, по их мнению, отвечать как-нибудь и даже совсем не отвечать. Они думают, что эти бесчисленные вопросы происходят большею частью просто от желания болтать, от нечего делать, а не от каких-нибудь других, более разумных побуждений.
Правда, что дети делают множество вопросов, ни к чему не ведущих, проистекающих только от праздности ума, от желания обратить на себя внимание старших, иногда даже от желания раздосадовать их своей докучливостью. На такие вопросы наставница имеет, разумеется, полное право отвечать кратко и сухо или совсем не отвечать, если ей заблагорассудится. Она даже обязана это делать для того, чтобы не приучать детей к пустой и бесполезной болтовне и внушить им мысль, что язык дан им для хорошего и разумного употребления.
Но не все вопросы, делаемые детьми, бессознательны: большею частью ребёнок спрашивает оттого, что хочет знать. Для него всё ново; всё привлекает его внимание и возбуждает его любопытство. Очень естественно, что он беспрестанно обращается с вопросами к тем, которые старше его и потому должны более знать. Такие вопросы доказывают не пустое, бессознательное любопытство, но любопытство разумное, похвальное, проистекающее из врождённой человеку потребности знания. Такие вопросы заслуживают, чтобы наставница обращала на них полное внимание и отвечала на них не как-нибудь, не рассеянно и небрежно, а сколько возможно яснее и полнее».
***
«Внимание ребёнка бегло и рассеянно; он взглянет мельком на какой-либо предмет и тотчас спрашивает: что это такое, зачем и для чего? В таком случае не торопитесь отвечать ему решительно; заставьте его прежде осмотреть хорошенько этот предмет и поразмыслить о нём. Но заставить ребёнка насильно думать о каком-либо предмете нельзя: нужно возбудить в нём охоту к этому и потом нужно указать его мыслям тот путь, который сможет всего лучше привести к цели.
Если вы просто скажете ребёнку: подумай сам об этом предмете, — он или не задаст себе этого труда, или, несмотря на то что станет думать, всё-таки не придёт к желанному результату, потому что он не знает, как думать, на что обратить внимание, за какую сторону предмета прежде ухватиться для того, чтобы проще и легче объяснить другие.
Нужно помогать его мыслям, нужно учить его переходить правильно и постепенно от понятия к понятию, нужно указывать ему в предмете то, на что следует обратить внимание. Иногда нужно сделать ребёнку целый ряд вопросов для того, чтобы привести его к разрешению того простого, по-видимому, вопроса, с которым он к вам обратился.
"К чему же такая бесполезная трата времени! — скажут, может быть, иные наставницы. — Зачем говорить целый час о том, на что можно ответить в одну минуту?" Но думаете ли, что этот быстрый и решительный ответ, который, по-видимому, удовлетворит разом любопытство ребёнка, действительно объясняет ему всё то, что он хочет знать! Вы сказали кое-что вкратце с таким видом, как будто больше ничего не осталось узнавать об этом предмете. Ребёнок вам поверил и не интересуется более этим предметом. Но разве это значит удовлетворить детское любопытство?
Когда ребёнок спрашивает о каком-нибудь предмете, он не знает, насколько есть в этом предмете любопытного, и ваше дело — показать ему предмет со всех сторон, выставить ему на вид всё, что есть в нём достойного внимания. Тогда любопытство ребёнка сделается сильнее и вопрос его дополнится множеством новых вопросов. Но и тогда не время ещё начать быстро разрешать все эти вопросы; погодите, пусть ребёнок сам разрешит их; ваше дело только помогать ему новыми вопросами, которые бы вызвали его размышление.
Кажется: что может быть легче, как делать детям вопросы. Так действительно думают многие неопытные наставники, но на самом деле это вещь чрезвычайно трудная! Лёгким это кажется только той наставнице, которая будет делать вопросы, не заботясь о том, как дети понимают их и как на них отвечают. Но наставница, которая пожелает, чтобы дети всегда отвечали на её вопросы сознательно, поймёт, как много нужно искусства и опытности для того, чтобы делать детям удачные вопросы.
Вопросы, предлагаемые ребёнку, должны помогать его мысли, но никак не должны избавлять его совершенно от труда думать. Они должны быть настолько просты и ясны, чтобы дитя могло хорошо понять их и нашло в них указание, как отвечать, но они не должны быть настолько уже ясны, чтобы в них заключался готовый ответ и ребёнку не о чем было подумать».
***
«Случается иногда, что дитя не умеет отвечать на самый простой, по-видимому, вопрос. Наставница приписывает это тупости или упрямству ребёнка, сердится, делает выговоры, но это нисколько не помогает делу, потому что ученица тут ничем не виновата. Дело в том, что она не понимает вашего вопроса.
"Не может быть! — скажете вы. — Вопрос так прост, а ученица не глупа".
Прост он может быть для вас, но не для неё. Вы дали своему вопросу не ту форму, которая бы могла быть для неё доступна; вы употребили не тот склад речи, который соответствует её возрасту, степени её понятий и свойству её ума.
С каждым ребёнком нужно говорить особенным языком, нарочно для него созданным. Положим, что ваша речь имеет все те качества, которые нужны для того, чтобы она соответствовала потребностям детского возраста вообще; но этого ещё не довольно. Нужно уметь говорить с каждым ребёнком тем языком, который всего более соответствует его индивидуальному развитию, который для него может быть всего более понятен.
Если вы предлагаете один и тот же вопрос нескольким детям, может случиться, что одно дитя поймёт вас совершенно, тогда как другое поймёт только наполовину, а третье совсем не поймёт. Из этого ещё не следует, что дитя, которое поняло вас лучше других, непременно умнее их. Может быть, вы употребили случайно тот оборот речи, который всего более соответствует свойству его ума. Может быть, другие дети, которых вы сочли по этому поводу менее умными, поняли бы вас лучше, если бы вы дали своей речи ту форму, которая для них всего доступнее».
***
«Есть учителя, которые беспрестанно боятся уронить своё достоинство, свою важность перед учениками, а потому держат себя с ними в отдалении, недоступны для них, давая им при всяком случае чувствовать существующее между ними расстояние, показывая, как они во всём зависят от своих учителей, как велика их подчинённость в отношении к своему начальству.
Но положим, что такой учитель придёт в ближайшие соотношения с родителями своего ученика, будет введён, например, даже в дом их; не скажет ли ему тогда чувство приличия, что он обязан выразить и ученику то внешнее уважение, которое следует оказывать детям знакомого дома? Разве одна случайность ближайшего знакомства с родителями ученика должна иметь такое влияние на учителя, чтобы изменять его отношение к ученику? Разве чувство приличия не должно заставить учителя быть равно внимательным, вежливым ко всем ученикам, знаком он ближайшим образом с их родителями или нет? Разве не все родители имеют право требовать, чтобы учитель не пренебрегал их детьми, их лучшим сокровищем, которое они вверяют учителю с полной уверенностью, что он не пренебрежёт ими?
Если приличие требует, чтобы учитель в присутствии родителей ученика оказывал ему вежливость, внимание, ласковость, то справедливость требует, чтобы это же оказывал учитель своим ученикам и в отсутствие их родителей. Ничем другим в большей части случаев учитель не может показать уважения своего к родителям, как таким обращением с детьми их.
Выражать неуважение к детям — это значит выражать вместе и неуважение к их родителям, на что, без сомнения, никто не имеет права. Учитель, не желающий заслужить себе справедливого упрёка в неприличии, невежливости, грубости или же в двуличности, лицемерии, будет всегда обращаться с младшими учениками своими с той же ласковостью, а со старшими с той же внимательностью, как уже одно простое приличие требовало бы обращаться с ними в присутствии их родителей.
Само собой разумеется, что между домом и училищем есть разница: в классе ученики являются в отношении к учителю не как отдельные личности, а как совокупность их; это понимают и сами ученики и потому обращаются с учителем в классе не так, как встретившись с ним в одиночку. Но как бы то ни было значительно это различие, оно нисколько не исключает благорасположения учителя к ученикам, а тем менее даёт ему право быть с ними невнимательным, грубым, дерзким.
У детей и юношей такое тонкое, верное чутьё, что они очень хорошо понимают, как с ними обходятся: стоит только учителю обращать на это должное внимание, и оно будет для него верным руководством при обхождении со своими учениками.
Ученики не требуют от учителя ни того шутливого обращения, которое решительно не совместимо со званием учителя и воспитателя, ни тех пустых, рассчитанных форм светского обхождения, которые вообще маловажны, а детям, мало знающим в том толку, кажутся просто смешными; но того дружеского, живого, тёплого к ним участия, которое выливается прямо из души и которое вообще есть верный признак истинной образованности, — этого ученики, действительно, ожидают от учителя, и тем больше имеют на это права, чем больше в том нуждаются.
Не привыкшие к отталкивающему и холодному обращению с ними, чувствительные, щекотливые ко всякому грубому и оскорбительному слову и действию, они могут быть доведены даже до открытого сопротивления крутым, резким, вообще неискусным, неловким с ними обращением.
Не менее того показывает опыт, что, напротив, они стараются вести себя прилично, когда такое же поведение учителя их на то вызывает; они избегают случая провиниться, если знают, что их щадят, милуют; они не позволяют себе никакой непристойности, если не находят к тому никакого повода в самом учителе; вообще они уважают того, кто уважает их.
Если и прорвётся какая-нибудь грубость, непристойность, неприличие, вообще проступок со стороны одного из их товарищей, то уважаемый и любимый учитель может быть уверен, что прочие не поддержат его, не скроют от него проступка и даже облегчат возможность принять против провинившегося надлежащие меры».
***
«Весьма важная и между тем обыкновенная ошибка воспитателей состоит в том, что они держат в совершенной зависимости воспитанника, достигшего уже известной зрелости; что они и с выходящим из детства, со взрослым обращаются всё ещё так, как с ребёнком, не терпя в нём зарождающейся потребности к самостоятельной деятельности, подавляя в нём то, в чём собственно и выражается духовная природа человека.
Так обыкновенно поступает тот, кто своего воспитанника оставляет в детстве на произвол случая, мелких капризов, безграничного своеволия, не терпящего никакого закона, не покорного никакому приказанию. Слишком уже поздно замечает такой воспитатель, что взрослый человек совсем не тот, каким он желал и надеялся его видеть; что теперь уже он отвергает его руководство, пренебрегает его советами и наставлениями, между тем как сам с собой ещё управляться не в силах.
Благоразумный воспитатель тогда предоставляет ребёнку непринуждённую деятельность, когда это сообразно с истинной целью воспитания. С возрастом, с развитием воспитанника он всё более и более даёт ему свободы, приучая его таким образом к самостоятельности. При таких условиях воля воспитанника всегда будет согласна с волей воспитателя.
Истинное воспитание находит для себя награду в достижении того результата, что взрослый человек пришёл в состояние сам собой управляться как следует; ложное воспитание как бы сожалеет о том, что взрослый вышел уже из детства. Воспитатель с истинным направлением воспитывает себе в своём воспитаннике лучшего друга, а с ложным — часто злейшего врага.
Воспитать человека так, чтобы он был собственным своим воспитателем, — значит дать воле его такое направление, следуя которому, воспитанник приобретает и желание, и навык идти сам собой по пути, на который вывел его воспитатель. Воспитанник должен перенять на себя своё воспитание тогда, когда оно оканчивается уже со стороны воспитателя.
Разница между воспитанием, основанным на таком истинном начале, и между его противоположностью состоит преимущественно в том, что в первом случае воспитанник переходит от внешнего воспитания к внутреннему, от зависимого к самостоятельному, что и сообщает ему силу найтись во всех обстоятельствах жизни, быть не рабом их, но господином; в последнем же случае место воспитания заступает влияние случайных обстоятельств, которые овладевают тем, кто не приобрёл самостоятельности характера.
Впрочем, благоразумный воспитатель не вдруг бросает в пучину света своего воспитанника, но снабдив прежде всеми орудиями, которыми он силён победить все влияния, враждебные истинной цели воспитания».
***
«Не нужно также заботиться о том, чтобы дети отвечали как можно скорее; пусть лучше ребёнок отвечает медленно, но правильно, обдуманно, нежели скоро, но ошибочно. Часто случается, что дети, изумляющие всех бойкими и речистыми ответами, понимают ответ, о котором их спрашивают, гораздо хуже, нежели те, которые не умеют отвечать быстро, не подумавши.
Дети говорят обыкновенно неясно и сбивчиво; они торопятся передать свою мысль как-нибудь, нимало не заботясь о точности и правильности выражения. Необходимо приучать их давать своим вопросам и ответам более точности и правильности, сколько для того, чтобы разъяснять этим их собственные понятия, столько же и для того, чтобы научить их выражаться внятно для других.
Вопросы, делаемые детям, нужно располагать таким образом, чтобы ребёнок не мог ответить каким-нибудь одним словом, а должен бы был непременно для ясности смысла сказать в ответ целую правильную фразу, составленную по большей части из слов, заключавшихся в вопросе, но расположенных в форме ответа.
Если ребёнок отвечает не ясно, помогите ему новыми вопросами. Иногда заставляйте детей рассказывать что-нибудь вам или друг другу. Если дитя говорит неправильно, не поправляйте его, но сделайте, чтобы он сам себя поправил, предлагая ему такие вопросы, которые бы могли навести на выражение более ясное, определительное».
***
«Есть учителя, которые смотрят с недоверчивостью на всё, что делают ученики. При всяком случае они подозревают их в злом умысле и потому беспрестанно сердятся и горячатся. Этим обнаруживают они ту слабость, которая не может ни понимать слабости других, ни сносить их.
Разве дети, отданные им на воспитание, уже более не нуждаются в нём? Разве они не могут иногда забываться, выходить из пределов дозволенного, предписанного, не умея вообще вести себя в пределах должного? Разве нет другого объяснения всякого проступка их, кроме злоумышления?
Конечно, нельзя вообще сказать, что ненасытная жажда познаний и вообще образованности гонит мальчиков и девочек в школу; но всё же они не с тем являются туда, чтобы сопротивляться учителю. Если ученик ленится; если прибегает к чужому пособию или употребляет другие недозволенные средства для исполнения заданных ему работ; если подсказывает своему товарищу или старается вывести его из затруднения другим образом, то надобно быть совсем слепым, чтобы видеть в этом неприязнь против учителя. Или если ученик рассеется как-нибудь во время класса, займётся посторонним, будет разговаривать с соседом, также если ему не удаётся сделать или выразить что-либо так, как следовало бы, то разве только преднамеренное зложелание может объяснять это тем, будто всё это делается с целью раздосадовать, огорчить, оскорбить учителя? У молодёжи, которая ещё не рассуждает зрело, ещё не умеет взвешивать своих действий, неосторожно увлекается минутой, подобные явления так естественны, что они неизбежны, зачем же придавать им важность?
Учитель всегда должен быть готовым видеть и испытывать много такого, чему быть не следовало бы; из этого многое, однако же, так маловажно, что лучше всего и не замечать его. Иное можно остановить одним взглядом, лёгким намёком, другое исчезает само собой, когда учитель в роковую минуту даст ученику случай заняться чем-либо самостоятельно. Есть проступки такие ничтожные, что учитель может позволить себе иногда смотреть на них сквозь пальцы, рассчитывая на то, что всё пройдёт скоро и само собой. Многие шалости тогда именно и потеряют свою невинность, если мы усомнимся в ней.
Маленькие вольности, которые могут быть без вреда дозволены ученикам, много способствуют поддержанию в них бодрости духа, весёлости, охоты к учению и готовности повиноваться. Если ученики знают, что им предоставляется свобода в известных, хотя бы и тесных границах, то они и этим легко удовольствуются, а сами остерегутся слишком далеко переступать за эти границы, не считая себя на то вправе и вообще не одобряя никаких грубых проступков. Снисхождение со стороны учителя к маловажным проступкам возбуждает в них любовь и преданность к нему; а кому неизвестно, как много зависит успех учения от взаимных добрых отношений между учителем и учениками?
Конечно, для установления таких отношений требуется некоторое умение, искусство со стороны учителя. Но кто не умеет ездить на молодом коне, тот лучше и не садись на него; а если уж сел, то, по крайней мере, не жалуйся, что движения его слишком живы, и заблаговременно слезай, пока конь ещё не успел наделать вреда и тебе, и самому себе.
Жестокостью тут не сделаешь ничего. Замкни сердце своё от молодёжи, и она сама замкнёт своё сердце, от природы открытое. Жестокость, суровость, строгость учителя превращают добрую волю учеников в злую, доброе намерение — в зложелание.
Стоит только беспрестанно подозревать учеников в дурном, ожидать от них только дурного, тогда и самый лучший ученик подвергнется опасности наделать много дурного. Такой учитель губит, портит нравственность учеников своих».
***
«...Есть учителя, которые обращаются с учениками своими, руководствуясь произволом, капризом. Произвол, каприз есть признак бесхарактерности. Кто допускает сегодня то, за что вчера наказывал, бывши в раздражённом состоянии, или сегодня недоволен тем, за что вчера изъявлял удовольствие, тот человек бесхарактерный и неспособный исполнять учительскую должность.
Кроме того, что он вообще колеблется между жестокостью и мягкостью, без всяких начал, оснований, правил, — он ещё и не умеет найти надлежащие меры ни для той, ни для другой. Раз он чрезмерно строг там, где достаточно было бы одного напоминания или выговора, а в другой раз он слишком слаб там, где следовало бы употребить меры строгости, он то фамильярничает, братается с учениками, то вдруг превращается в недосягаемого богдыхана [название китайского императора].
Ученики умеют очень скоро понять такого господина и с этим понятием соображают потом своё поведение. Тогда всё уже будет зависеть от того, клонится ли учитель больше к строгости или к слабости.
В первом случае учитель скоро так напугает своих учеников, что они перестанут доверять ему и тогда, когда он захочет приласкаться к ним; урока его дожидают с трепетом; даже его ласковая мина не отгоняет от них опасения, что вот-де внезапно ударит в них молния из безоблачного неба.
Если же учитель больше слаб, чем строг, то горе ему: он пропащий человек. Шалость, принадлежащая к числу самых обыкновенных спутниц детского и юношеского возраста, найдёт тысячу средств поставить его в самое затруднительное положение; ученики будут искать удовольствие в том, чтобы этого добряка сперва рассердить хорошенько, а потом полюбоваться, как он станет беситься. Можно вообразить себе, что бывает тогда с учением. Назначаемого им наказания ученики перестают бояться; а если оно падёт, как обыкновенно бывает в таких случаях, на невинного, который иногда просто подставляется вместо виновного, то к мучению учителя прибавляются ещё громкие и, правду сказать, заслуженные упрёки в несправедливости. Ученики всегда ждут от учителя справедливости во всех действиях.
Учитель должен знать своих учеников; должен знать не только каких можно ожидать от них познаний и работ, но и какого они поведения, характера, чтобы на этом основании судить о них справедливо. Человеку зрелому нетрудно видеть насквозь юношей своих, если бы они и пытались притворяться или скрытничать; при своей природной откровенности они не могут ни искусно, ни долго притворяться; а уважение, внушаемое в них стойким, серьёзным характером учителя, облегчает ему возможность сдерживать их в должных границах. Если ученик и провинится перед таким учителем, то сознание своей виновности обезоруживает виновного, так что молча и терпеливо подчиняется он справедливому наказанию. Как бы ни был строг приговор над ним учителя, он сознаёт, что заслужил его, и потому он не осмеливается противиться ему.
Вообще, кто имел случай близко наблюдать над неприятными сценами, происходящими от времени до времени между учителем и учениками, тот легко убедится, что многих из них можно было бы избегнуть обращением учителя с учениками спокойным, твёрдым, благоразумным приноровлением к детской и юношеской природе, но вместе с тем и полным любви. Любовь к детям разумная, истинная научит учителя лучше всего, как ему вести себя с учениками: она же ведь научает этому нежную, но умную мать, твёрдую и вместе снисходительную, строгую и вместе любящую своё дитя, как дитя своё, и вместе уважающую в нём человека».