Недавно в наших журналах оспаривался вопрос о народности в науке. Появление такого вопроса можно объяснить только тем, что самое слово «наука» употреблено в нем не в настоящем своем значении. Если же под именем науки понимать собрание результатов добытых человеком в познании законов природы, разума и истории, то ясно само собой, что о народности здесь не может быть и речи. Наука потому и наука, что принимает в область свою только те выводы, которые справедливы по законам общего человеческого мышления. Положения ее должны быть общи и неизменны, как общи и неизменны самые законы природы, разума и истории: все особенное, частное, неоправдываемое разумом, общим для всех людей, не имеет в ней места. Наука, открывающая законы мира, является как самый мир и разум, познающий его, общим достоянием человечества. Если мы и замечаем оттенок народности в науке, то он, проглядывая в обработке ее, не может касаться ее результатов. Если, например, в философах Англии и моралистах Шотландии отражается народный характер, если в историке можно почти всегда узнать француза, англичанина или немца, то это только потому, что каждый из них разрабатывает одну сторону предмета, к которой влечет его национальный характер. Но результаты, добытые такими учеными, верны для каждого человека относительно той стороны предмета, которой они занимались, в противном случае эти результаты не войдут в науку. Такое народное влечение к той или другой науке или к той или другой стороне предмета вырабатывается в народе само собой, вследствие природных или исторических причин, и, если бы кто-нибудь, желая во что бы то ни стало быть народным, создал для себя особенную точку воззрения, тот добровольно, прежде открытия истины, лишил бы себя свободы, необходимой для ее открытия, – надел бы на себя цветные очки, для того чтобы узнать цвет предмета.
Каждый образованный народ только тогда имеет значение в науке, когда обогащает ее истинами, которые остаются такими для всех народов. И наоборот, какую пользу науке мог бы принести народ, создавший свою особенную народную науку, не понятную для других народов? Могла ли бы, наконец, идти наука вперед, если бы каждый народ создавал для себя особую науку, не усваивая результатов, добытых его предшественниками и современниками? Как непонятны выражения «французская математика», «английский закон тяготения», «немецкий закон химического сродства», точно так же не имеет содержания и выражение «русская наука», если под этим выражением не разуметь той части науки, предметом которой является Россия, ее природа или ее история. Процесс создания науки совершается в той высшей сфере человеческих способностей, которая уже свободна и от влияния тела и влияния характера, основывающегося всегда на телесных особенностях.
Но то, что прилагается к науке, не может быть приложено к воспитанию. Воспитание не имеет целью развития науки, и для него наука не цель, а одно из средств, которыми оно развивает в человеке свой собственный идеал. Воспитание берет человека всего, как он есть, со всеми его народными и единичными особенностями, – его тело, душу и ум – и прежде всего обращается к характеру человека, а характер и есть именно та почва, в которой коренится народность. Почва эта, разнообразная до бесконечности, прежде всего, однако, распадается на большие группы, называемые народностями. Можно ли и должно ли разрабатывать эти различные почвы одними и теми же орудиями, сеять и производить на них одни и те же растения, или для каждой почвы педагогика должна открыть особые орудия и особые этой почве свойственные растения? Вот вопрос, который мы здесь задаем себе.
Сначала посмотрим на факты и отыщем в них твердую опору для своих мнений.
Глава I. Общие исторические основы европейского воспитания
Системы общественного воспитания у всех европейских народов представляют при первом взгляде на них большое сходство не только в предметах учения, которые везде одни и те же, но даже в самой организации учебных заведений, дидактических приемах и законах школьной дисциплины. Это сходство прежде всего, конечно, зависит от той разумности воспитательных мер, которая определяется более или менее общей для всех народов целью воспитания и единством психологических законов, везде служащих основой для всякой воспитательной деятельности. Но нетрудно заметить, что не все черты этого сходства могут быть объяснены разумностью и что многие из них указывают на историческое единство происхождения педагогических систем Европы. И в самом деле, обращаясь к истории, мы видим, что все эти разнородные системы – ветви одного могучего растения, семя которого было посеяно общей для всех христианской церковью.
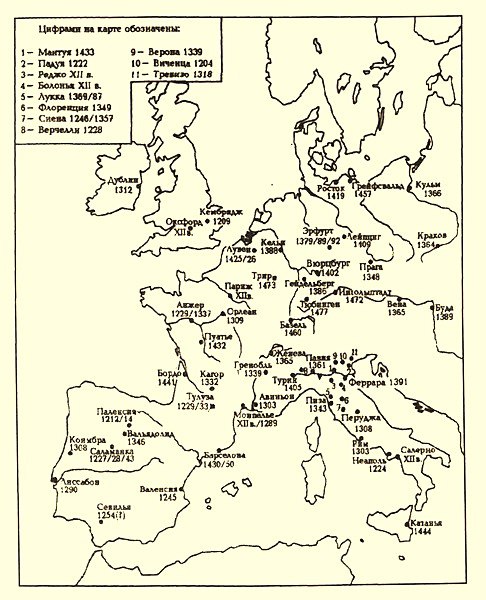
Карта средневековых университетов в Европе
Духовная жизнь Европы XI, XII, XIII вв., конечно, была далеко не так развита, как современная, но зато простые и немногосложные начала ее соединяли в один народ всех образованных людей того времени, к какому бы племени они ни принадлежали. Взгляните, например, на Парижский университет XII в.: французы, немцы всех племен, испанцы, итальянцы, англичане, ирландцы, шведы, греки составляют университетское население, и все эти образчики разнообразнейших племен тесно связаны между собой единством цели, собравшей их сюда, под покровительство церкви, со всех концов мира. Они теснятся все в кучу, в один квартал Парижа, носят один костюм, говорят одним языком, составляют одну тесную общину, пользуются одними привилегиями, повинуются одним университетским законам. Все эти лица различных племен в отношении остального населения Парижа представляют одну тесную общину, одну сплошную массу, на которой лежит один полудуховный отпечаток, так что все они, без различия племен и званий, носят одно название – клериков. Они ближе к Риму, чем к городскому управлению Парижа.

Сорбонна
То же делается и в других древних университетах Европы, и они сносятся между собой как члены одной нации. Профессоры и студенты Парижского университета переходят толпами в Оксфорд, и, наоборот, оксфордский студент, вытесненный смутами из своей alma mater, находит себе приют в Париже. Все тогдашние университеты, за исключением, может быть, университетов итальянских, имевших светское начало, являются членами одного особого государства, глава которого находится в Риме. Такое единство замечается не в одних университетах, но и во всех школах средневековой Европы, потому что все они, за немногими исключениями, обязаны своим существованием и своим устройством римской церкви, связавшей Европу сетью своих учреждений.
Это один европейский народ, раскиданный большими и малыми корпорациями по всем странам Европы, – народ схоластиков (scholastici). Немногосложная средневековая наука (trivium et quadrivium), еще не совершенно отделившаяся от богословия, везде одна и та же, говорит одним и тем же языком латинским и вызывает везде одни и те же педагогические законы и установления.
Так называемое возрождение наук, когда классическая древность вступила в действительное наследие новых европейских народов, поддержало еще на некоторое время это единство духовной жизни Европы, которое, основываясь преимущественно на религиозном единстве, начинало уже колебаться к концу средних веков. Таким образом, классицизм, общее европейское наследие, и христианство, перешедшее в духовную жизнь новой Европы через посредство Рима и Византии, двух великих педагогов всех средних веков, составили однообразную основу общественного образования для всех европейских народов.

Болонский университет
С наступлением новой истории всё изменяется. На место племени выступает государство. Римская церковь, рыцарство, монашеские ордена и схоластика должны были уступить место новой европейской жизни, устремившейся к образованию государственного начала, а вместе с тем отдельных государств и отдельных государственных национальностей. До начала новой истории, которое совпадает с возрождением классицизма, самое понятие о народе существовало только в виде понятия о племени. «Феодальные учреждения скрывали за собой понятие об отечестве, – говорит г. Токвиль, – самое слово “отечество” не встречается у французских писателей до шестнадцатого века» (De la democratie еn Amerique. Deuxieme partie. Tome II. P. 113). Но с этого времени средневековые деления уступают место делению на великие нравственные существа – государства и народы, и классическое понятие о любви к отечеству, скрывавшееся прежде в сердцах людей за любовью к своей общине, к своему сословию, к своему званию, снова возрождается и выступает на первый план. Вместе с тем и общественное образование также подчинилось общему закону деления по государствам и народам. Оно не могло уже бороться с государственным и народным началом, как боролось прежде с племенным различием, составлявшим характеристику средних веков. Всё пало пред государством, и вся жизнь Европы заключилась внутри государств, подчиняясь в каждом из них своему особенному развитию. Народное воспитание подверглось общей участи, одна только наука осталась общей для всех народностей.
Но тем не менее остатки прежнего единства общественного образования Европы сохранились и до сих пор. Классические языки, классические писатели и до сих пор составляют основу воспитания всех европейских народов, и новейшая педагогика, несмотря на множество педагогических систем, сменявших друг друга, не решилась оторваться от этой основы. Классическая древность и до сих пор повсюду оказывается необходимой не только по содержанию своему, но и по той развивающей и укрепляющей рассудок силе, которую оказывает ее изучение. В этом последнем отношении европейская педагогика не изобрела еще ничего, чем бы можно было заменить классицизм.
Но не один классицизм напоминает в системах общественного образования европейских народов их общее средневековое происхождение. В школьном устройстве, в школьной дисциплине, в разделении наук, в названиях множества предметов школьного мира, даже в самом названии «школа», общем для всех европейских народов, мы встречаем повсюду разорванные куски средневековой схоластики. И к нам проникла она через посредство Польши и киевской академии.

Киевская духовная академия
В Англии и Испании мы находим еще почти целыми огромные обломки этого здания средних веков, многочисленные остатки которого, занесенные из Англии в Северную Америку, так странно противоречат с шумом ее современной деятельности. Но эти остатки, напоминающие в Нью-Йорке, Лондоне, Берлине и где-нибудь на берегу Охотского моря схоластическую жизнь Европы, не более как тяжелые вооружения средневекового арсенала, разобранные для современного маскарада. Под этими однообразными доспехами схоластического рыцарства скрываются самые разнохарактерные личности совершенно другого века.
Сделавшись одним из элементов государственной и народной жизни, общественное воспитание пошло у каждого народа своим особенным путем, и в настоящее время каждый европейский народ имеет свою особую характеристическую систему воспитания. Внешнее сходство, о котором мы говорили, недолго может вводить в заблуждение внимательного наблюдателя, и он скоро убедится, что в каждой стране под общим названием общественного воспитания и множеством общих педагогических форм кроется особенное характеристическое понятие, созданное характером и историей народа.
В школах всего образованного мира, удержавших везде и до сих пор свое средневековое название школы, везде преподается одна и та же латинская и греческая грамматика, изучаются одни и те же греческие и латинские писатели, одна и та же математика, не признающая никаких национальностей, та же история с своими нескончаемыми пуническими войнами, но всякий народ ищет и находит в этих всемирных учителях особенную пищу, сообразную его национальности. Несмотря на сходство педагогических форм всех европейских народов, у каждого из них своя, особенная, национальная система воспитания, своя особая цель и свои особые средства к достижению этой цели.
Сделаем краткий очерк главнейших из этих систем, объявляя предварительно, что эти слабые и краткие очерки не могут выразить вполне характеристики систем воспитания у различных народов. Мы будем довольствоваться только немногими характерными чертами.
Глава II. Характеристические черты германского общественного воспитания
Типической чертой германского характера, которая до сих пор решала роль Германии в истории, определяла её значение во всемирном развитии человечества, является наклонность к отвлечению и выходящая из неё наклонность к системе. Немец во всех явлениях жизни ищет гармонии и связи, всё возводит в отвлечённую идею и отовсюду её извлекает. Для него недостаточно понимать вещь; но ему непременно нужно определить её и дать ей место в системах своих знаний. Определениями пустейших и ничтожнейших предметов набиты кипы немецких учебников. Без определения для немца и вещь не вещь. Прежде всего видит он в каждом предмете его философскую сторону и всякое дело своё начинает и оканчивает философской мыслью. Если у него нет истинной философии, то он выскажет самую избитую мысль, годную только для прописи, но ни за что не пропустит случая пофилософствовать. Но более всего он заботится, чтобы в голове его не осталось ни одного незанятого уголка и в мире ни одного предмета, который бы не поместился в одном из уголков его системы.

Ж. Юбер ― Обед философов
Эта страсть к абстракции и системе создаёт великих учёных, познания которых обнимают мир, как познания Риттера и Гумбольдта, поэтов-философов, как Гёте, и философов-поэтов, как Шеллинг и Гегель, но она же создаёт и немецких мечтателей и мечтательниц в молодости и самых мелочных формалистов и педантов под старость. Глубокомыслие и учёность — лицевая сторона этой народной наклонности; педантизм и резонёрство — оборотные её стороны. Ей Германия обязана своими всемирным значением в науке и своим политическим ничтожеством, величайшими произведениями ума человеческого, составившими эпоху в развитии человечества, и необозримой грудой бездарнейших книг, в которых под сеткой бесконечных делений и подразделений, оглавленных буквами всех размеров и всех азбук, не скрывается часто ни малейшей мысли. Вся литература Германии, в которой сосредоточились почти и все результаты её исторической деятельности, служит лучшим доказательством наших слов.
Эта же красная нить германского характера положила особенный отпечаток и на общественное образование Германии.
По страсти своей всё систематизировать германцы возвели и искусство воспитания на степень науки, наравне с бесчисленным множеством других чисто немецких наук, и с любовью разработали её в многотомные системы, обладающие тысячами подразделений. Но, несмотря на твёрдое убеждение большинства немецких педагогов, что они работают над воспитанием человека вообще, к какому бы народу он ни принадлежал, немецкая педагогика — наука чисто немецкая. Стоит только беспристрастному читателю другой нации прочесть три, четыре немецкие педагогики, чтобы убедиться, что идеал человека, воспитание которого в них разрабатывается, — немецкий ессе homo, совершеннейший немец.
Прежде всего и более всего немецкое воспитание стремится к всесторонности и систематичности познаний. Программы немецких гимназий, факультетов и немецких экзаменов пугают своею многосложностью и громадностью. Взгляните только на программу учительского экзамена на право преподавания в гимназиях, и вы убедитесь, что этой программе едва ли в состоянии будет удовлетворить учёнейший из профессоров Англии, Франции или Северной Америки.

Вюрцбургский университет
В немецкой учительской программе всё предвидится, даже самая отдалённая возможность какого-нибудь объяснения, когда, например, учителю немецкой словесности или учителю истории может понадобиться знание еврейского языка. Но зато в Германии только вы найдёте учебники, где прежде определения какого-нибудь слова перечисляются названия его у двадцати народов и где, например, приступая к описанию сохи, автор выводит её восточное происхождение и рассказывает предварительно всю её историю, начиная с Китая и оканчивая Германией. Программа выпускного гимназического экзамена (Abiturienten-Examen) так громадна и многосложна, что ей не в состоянии удовлетворить университет других наций, а факультетские программы германских университетов представляют полнейшие системы наук со всеми возможными и даже невозможными их частями.
Нетрудно заметить, что здесь воспитание приносится в жертву науке или, вернее сказать, наука и учёность являются окончательной целью, к которой направлено всё воспитание. Человек учёный и человек хорошо воспитанный для немца одно и то же, хоть он и старается положить в своей педагогической теории границу между этими двумя понятиями, но на деле эта черта исчезает. Умение приложить знания к делу, укрепление душевных способностей, развитие характера, внешняя полировка человека составляют для немецкой педагогики вопросы второстепенные. Она и на самый характер человека думает действовать не иначе, как через посредство знаний.

Г. Иглер — В заключении
Такая педагогика, вылившаяся из особенности германского характера, с своей стороны, имела влияние на развитие этой особенности. Она открыла возможность науке делаться популярной и находить на каждую мысль свою сотни новых деятелей. Только в Германии выражения кантовской философии могли перейти на язык портных и сапожников; только в Германии каждое подразделение науки может указать на тысячи разрабатывающих её монографий; только в Германии, наконец, могли найтись люди, посвятившие всю деятельность своей жизни какой-нибудь частице греческой грамматики.
Германская педагогика совершенно соответствовала до сих пор требованиям германской жизни: образовывала великих учёных и философов, толпу специалистов, разрабатывавших их идеи, и публику, смотревшую на деятельность учёную как на высшее выражение человеческой деятельности.

Э. Дерстлинг ― Кант и его сотрапезники
В последнее время прежние основы германской жизни пошатнулись. Это движение отразилось и на педагогике, взглянувшей сомнительно на свои прежние системы; но что будет впереди, мы не знаем и говорим только о том, как было до сих пор.
Мы будем ещё иметь случай воротиться к германскому воспитанию, которое вообще у нас более знакомо, чем общественное воспитание других стран, а теперь, довольствуясь этими немногими чертами, перейдём к Англии.
Глава III. Общественное воспитание в Англии
Общественное воспитание Англии представляет крайнюю противоположность германскому воспитанию. Оно менее всего заботится о полноте и систематичности знаний, и для него учёность составляет одну из профессий человека, которой он может заняться, если ему нечего более делать, но до которой воспитанию нет никакого дела. Для английского воспитания наука не цель, но одно из средств для развития характера, привычек, образа мыслей, манер истинного джентльмена – идеала, к осуществлению которого направлено всё английское воспитание. Молодой англичанин, получивший образование в Оксфорде, уже по этому самому считается джентльменом, к какому бы сословию он ни принадлежал. Оксфордские и Кембриджские коллегии, Итон, Вестминстер, Гарро, Рюгби гордятся не тем, что в них получили воспитание великие учёные или что под их покровом наука открыла новые пути, но, указывая с гордостью на целый ряд великих характеров английской истории, получивших первое развитие в их стенах, отвечают на упрёки в недостатке учёной деятельности, что «их дело создавать людей, а не писать книги» (De I'Jnstruction primaire a Londres, par E. Rendu. See. ed. Paris, 1853).

Кембриджский университет
По понятиям старой Англии, которые, несмотря на ежедневное усиление демократической партии, всё ещё стоят на первом плане, образование вовсе не составляет потребности каждого человека, а необходимую принадлежность только тех людей, которые по средствам своим могут стоять в ряду джентльменов.
Английское общественное воспитание существует, собственно, для аристократов в тесном смысле этого слова и дворянства (gentry), которое хотя не отделено от остальной массы народа никакими законными правами, но составляет на деле особенный класс. Этот класс, опора английского общественного устройства, не представляет замкнутого сословия и беспрестанно подновляется новыми лицами, вступающими в него с приобретением независимого состояния, но тем не менее он имеет свои предания и свою аристократическую гордость. Сын богача, составившего себе состояние своими трудами и дожившего свой век удалившимся от дел джентльменом (retired gentleman), уже начинает портретом отца новую портретную галерею. Аристократия находится не в одних государственных учреждениях Англии, но в самой крови народа и выражается столько же в добровольном уважении низшего класса к гербам и титулам, сколько и в привязанности его к старым именам, старым замкам и старым законам.
Остальному человечеству достаётся из общественного образования только то, что даёт ему христианская обязанность церкви, которая считает общественное образование своей частной привилегией, или филантропия богатых людей.

Т. Вебстер ― В классе
Этому общему характеру английского образования нисколько не противоречит то явление, что по числу благотворительных учебных заведений Англия занимает первое место между государствами Европы и что устройство многих из этих заведений послужило образцом для других государств. Все эти учреждения, иногда громадные и превосходно устроенные, – произведения частной благотворительности, а не правительственной или общей государственной системы воспитания, которой вовсе нет в Англии.
Образование граждан государства и членов христианского общества не входит в число обязанностей английского правительства, и даже самая эта идея, укоренившаяся в Германии вместе с протестантизмом, совершенно чужда Англии. Общественное воспитание в ней предоставлено совершенно частным усилиям, и правительство, с своей стороны, покровительствует ему несравненно менее, чем торговле и промышленности, которые признаются основами могущества и благосостояния государства. Само общество не признаёт за правительством права входить в дело общественного образования и встречает с недоверием и недоброжелательством всякое покушение на это со стороны правительства. Билль о таком вмешательстве долго и с ожесточением отвергался парламентом, и только уже после нескольких лет борьбы сила ораторского красноречия, рисующая яркими красками весь ужас невежества в бедном классе, а более всего ужасающие факты полной дикости, представляемые парламентскими комиссиями, дали, наконец, возможность пройти этому биллю, но и то в самом обрезанном и укороченном виде. Совещательный комитет воспитания (Commitee of Council on Education) был, наконец, учреждён правительством в 1839 г. Но этому комитету не дано прав правительственного установления, имеющего обязательную силу, но только права частного предприятия, наравне с другими предприятиями того же рода. Деятельность его основана на тех же самых началах, на которых основана деятельность двух больших воспитательных обществ Англии – Национального и Британского, обладающих притом гораздо большими средствами.
Воспитательный комитет имеет своею целью только то, чего не могут достичь в своей деятельности эти общества и другие частные предприятия, но средства его слишком ограниченны даже и для этой цели. Он может, так же как и эти общества и каждый частный человек, заводить школы и открывать их для какого угодно класса, но принудительность образования, принятая лютеранизмом в Германии, допускается в Англии только для несовершеннолетних преступников. Самая же деятельность Воспитательного комитета и английских воспитательных обществ состоит не столько в открытии новых школ, сколько в том, что они помогают своими средствами уже учреждённым школам и взамен этой помощи получают от них право инспекции и надзора. Это добровольный контракт с обеих сторон, и несоблюдение его со стороны школы наказывается отнятием вспомоществования.
Британское общество по добровольному договору подчинило свои школы инспекции Комитета, но общество Национальное осталось не только в независимом, но даже во враждебном отношении к правительственному Комитету. Это могущественное общество является органом англиканского духовенства, которое вместе с другими католическими преданиями сохранило убеждение, что право народного воспитания исключительно* принадлежит церкви.
*Протестантизм разделяет это право с государством, потому что и сам он вошёл в государственный организм.
Но несмотря на огромные средства этих обществ, они восполняют весьма незначительную часть потребности народного воспитания, и притом деятельность их, равно как деятельность правительства, преимущественно ограничивается элементарными школами для беднейшего класса.

У. Дэйвид ― Школа для девочек
Bcё остальное общественное образование находится в руках огромного множества частных предприятий и признанных законом учебных корпораций, из которых некоторые существуют уже несколько столетий.
Корпорации Оксфорда и Кембриджа, начало которых относится ещё к древнейшему периоду английской истории*, являются двумя вековыми и могущественными опорами всей системы английского общественного воспитания. В непосредственной связи с ними, укреплённой давностью, состоят все знаменитейшие и древнейшие школы Англии: Итон, Вестминстер, Гарро, Рюгби и другие, которые в свою очередь дают тон педагогике других более мелких корпораций и частных учебных установлений. Далее идут разнообразнейшие по характеру и направлению частные учебные установления, статуты которых, иногда написанные самими жертвователями или завещателями, в высшей степени оригинальны, но соблюдаются свято. Наконец, последнюю категорию составляют более или менее удачные произведения учебной спекуляции, существование которых зависит от общественного мнения, всё ещё управляемого в деле воспитания средневековыми корпорациями Оксфорда и Кембриджа**.

Оксфордский университет
*Начало университетской схоластической деятельности в Оксфорде Губер относит ко временам Альфреда Великого (Huber. Die Englischen Universitaten. Cassel. 1839. Erster Band. S. 57). Английские же антикварии идут ещё далее, ко временам друидов и римского владычества. Достоверно только то, что ещё до Альфреда значительная школьная деятельность была уже в Оксфорде.
**Всё это относится к Англии, но никак не к Шотландии, общественное образование которой имеет совершенно другие основы. Другие английские университеты составляют переход от древних университетов Англии к германскому университету Эдинбурга. Королевская коллегия и Лондонская университетская коллегия следуют направлению нового Лондонского университета, который ведёт борьбу с Оксфордом и Кембриджем. Дублинский университет (Trinity College) сохраняет древние предания и во многом напоминает Оксфорд. Новый Лондонский университет учреждён в 1836 г. и есть в основании не что иное, как экзаменационная комиссия, дающая права на учёные степени бакалавра и магистра словесности (artium), бакалавра и доктора законов, бакалавра и доктора медицины.
Вот почему схоластические формы воспитания, удержавшиеся в древних английских университетах, сохранились вообще в английском общественном воспитании более, чем в воспитании какого-либо другого народа. Величественные коллегии Оксфорда и Кембриджа облечены ещё в латы средневековой схоластики, но эта одежда накинута только сверху, и под нею скрывается совершенно английская идея. Англичане нашли средство, не удаляясь от схоластических форм, развивать в новых поколениях свои исторические убеждения и придавать характерам ту твёрдость и практичность, которыми отличается англосаксонское племя.
Английский джентльмен, так же как и немец, просиживает лучшие годы своей молодости за классиками и приобретает в классической литературе твёрдые, никогда не изглаживающиеся познания.
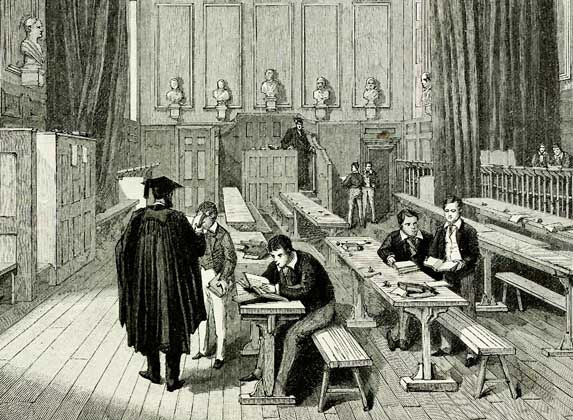
Классная комната в Итонском колледже
Но англичанин ищет в классиках не предметов исторического изучения или философического анализа, за которыми гоняется германец, а привычки к той силе и ясности языка, определённости и точности выражений, которыми отличается классическая литература и которые имели такое сильное влияние на образование логизма английской речи. Вообще, надобно заметить, что ни один европейский народ не отразил на себе более англичан классического, и в особенности римского, влияния. Оно заметно и в строгости их права, имеющего, впрочем, совершенно самостоятельную историю, и в их литературе. Ясная определённость, сжатость и логизм, которых достиг английский язык при своих ничтожных средствах, конечно, составляет весьма замечательное филологическое явление, в котором много участвует влияние римских писателей.
Английская аристократия, характером которой запечатлено английское общественное воспитание, представляет замечательную степень классического образования. Многие знаменитости английского парламента оставили по себе в Итоне или Оксфорде память сочинителей прекрасных греческих или латинских стихов, од или даже целых трагедий. Перевод сочинений Шекспира, Мильтона и других знаменитых английских писателей на латинский и греческий языки составляет одно из употребительнейших упражнений в коллегиях Оксфорда. Места из классических писателей беспрестанно цитируются парламентскими ораторами и не нуждаются в переводах. Всякий образованный джентльмен практически обладает классическими языками и иногда достигает в этом такой степени совершенства, которая не часто встречается и между учёными германскими филологами.
Впрочем, должно заметить, что в последнее время исключительность классического направления английской педагогики начинает давать место требованиям других наук. Науки естественные громко заявляют своё право на участие не только в общем образовании человека, но даже в элементарном воспитании. Мы имеем у себя собрание лекций знаменитейших профессоров Англии и Шотландии, доказывающих воспитательную силу химии, физики, физиологии и пр.
Должно сознаться, что в этих лекциях много правды. Новые кафедры естественных наук беспрестанно появляются в английских университетах. Даже технические науки, пользы преподавания которых долго не признавали англичане, начинают прокладывать себе дорогу Кафедры инженерного искусства, без которых англичане изрыли всю страну каналами и покрыли её железными дорогами, наконец, появились в Дургемском университете, Королевской коллегии и Лондонской университетской коллегии. Но трудно предполагать чтобы англичане когда-нибудь достигли того множества технических кафедр, которое мы видим в стране вовсе не технической, Германии, где, кажется, скоро каждая заводская промышленность удостоится кафедры.
Но главное в английском воспитании – это характер, привычка владеть собой (selfgovernment), отличающая всякого истинного джентльмена. На образование и укрепление характера обращено главное внимание английского воспитания. Английские древние университеты, равно как и знаменитые школы Англии, заведения более воспитательные, чем учебные. Жизнь воспитанников в самом заведении составляет правило: воспитанники, живущие по домам и приходящие только на время уроков, представляют исключение. В этих закрытых воспитательных заведениях господствует какой-то полусемейный, полуобщинный дух и наблюдается иногда величайшая строгость. Оксфордские студенты далеко не пользуются той свободой, какую мы привыкли считать принадлежностью студенческой жизни. Они живут в самых коллегиях под беспрестанным, почти монастырским надзором и обязаны соблюдать множество правил, которые даже для ученика германской и нашей гимназий показались бы стеснительными. Нет сомнения, что аристократическая и богатая молодёжь, выезжая за границы Оксфорда, вознаграждает себя с избытком за все лишения монастырской жизни в её коллегиях. Но тем не менее она привыкает повиноваться закону и, возвращаясь назад, снова надевает свои чёрные плащи и старинные неуклюжие шляпы.
«Наставления важны, пример ещё важнее, но более всего значит в воспитании руководство (training)», – говорит английская педагогика*. Мы не знаем ни на одном языке слова, которым бы можно было передать это английское training. Им выражается тот невидимый дух учебного заведения или семейства, который какой-то железной волей подчиняет себе всякий личный характер. Мы думаем, что не только это слово, но и самое понятие, которое им означается, чисто английское. Рассчитанная порядочность немецкой школы, казарменная дисциплина французской коллегии совершенно не похожи на тот характер старых английских школ, который живёт, кажется, как домовой, в стенах заведения и равно подчиняет себе учеников, наставников и даже прислугу.
*Chamber's Educational Course. The Moral Class-book. Preface.
Школьная дисциплина поддерживается более всего самими воспитанниками и состоит в повиновении письменному закону и обычному праву, которое держится столетиями во многих старых школах. Виновный чаще всего наказывается самими товарищами, и наказывается с такой строгостью, которую должен умерять наставник. Но зато и воспитанники крепко стоят за свои права, признанные письменным положением или давно укоренившимся обычаем. Самоуправление (selfgovernment), но не самоуправство сильно развито в английских школах.
«Чем ранее начнёте вы обращаться с мальчиком как с взрослым человеком, тем он скорее человеком сделается» (The sooner you treat him as a man, the sooner he will begin to be one). Это изречение холодной рассудочной морали Локка, которая вообще сильно отразилась на англичанах, сделалось аксиомой английской педагогики, и иностранец не без удивления, смешанного с неудовольствием, смотрит на этих маленьких десятилетних джентльменов в круглых шляпах, с необыкновенной важностью рассуждающих о самых обыденных и серьёзных предметах (скачках, поездках по железной дороге и т. п.), умеющих везде поддержать своё достоинство.

Школа 18 в.
В Северной Америке это же самое педагогическое правило приняло другое направление и отразилось не столько на внешности, сколько на внутреннем содержании. Североамериканские школьники кидаются в глаза своею шумливой дерзостью, неприятно поражают своими разговорами о политике и тем крикливым участием, которое принимают в публичных митингах. Это отчасти дурная сторона англосаксонской педагогики: она скоро стирает ту золотую пыль наивности, которой природа осыпала лёгкие крылья детства, и, если не делает недозрелых философов-систематиков, зато производит ту раннюю сдержанность и замкнутость, которые, конечно, полезны в жизни, но дышат холодом во взрослом человеке и неприятно поражают в ребёнке. Эти маленькие, холодные джентльмены, так умеющие держать себя, не по нутру славянской размашистой природе.
Английское воспитание так увлеклось полезным (useful) в развитии детского характера, что часто пренебрегает тем, что в нём есть прекрасного. Оно думает только о том, что может остаться в жизни, и рано топчет цветы, которые и без того скоро вянут. Но мы думаем, что педагогика, развивая в ребёнке будущего человека, не должна забывать, что детство также есть период жизни, и часто лучший её период. Но каков характер народа, таков и характер его воспитания. И посреди самой развитой американской жизни, где всё так хорошо, так полезно устроено, русскому человеку будет скучно и неуютно посреди всеобщего комфорта.
В Англии, как мы уже сказали, общественное образование есть дело частное, а не правительственное, но, несмотря на это, несмотря также и на его схоластические формы, по-видимому столь противоречащие промышленному характеру страны, нигде, может быть, воспитание не проникнуто национальным характером до такой степени, как в Англии. Оно установилось здесь совершенно самостоятельно, не прибегая к заимствованиям и подражаниям, всё вышло из истории народа и до сих пор является одним из главнейших деятелей в историческом развитии британского характера, свято перенося его из поколения в поколение.
Французский публицист г. Монталамбер совершенно прав, указывая на педагогическую систему Англии, во главе которой стоят Оксфорд и Кембридж, как на главнейшую опору британской конституции. Сама демократическая партия сознаёт, что древняя британская педагогика, вся проникнутая аристократическим и общинным характером Англии, является главной помехой в осуществлении тех планов централизации и нивелировки, которые стремятся провести в жизнь английские демократы. Вот почему они и нападают с таким ожесточением на древние корпорации Оксфорда и Кембриджа, обвиняя их в отсталости, в лени и бездействии и требуя от них реформ на германский лад. Но старые университеты ещё стоят непоколебимо и с необыкновенной медлительностью допускают только те реформы, потребность которых высказалась уже вполне в народной жизни. Они продолжают воспитывать новые поколения английских джентльменов, передают им заветы предков и с гордостью прибавляют новые портреты к длинному ряду тех, которыми уже украшаются готические залы их коллегий. Эти портреты свидетельствуют, сколько замечательных людей приготовилось к общественной деятельности в средневековых стенах английских университетов.
Вот что говорил Каннинг об английских старых университетах и публичных школах: «Если наша история представляет нам почти непрерывный ряд людей, которые в самых трудных положениях нашей страны явились её опорой, сильные на словах и на деле; если мы ни в одной области управления не нуждаемся в людях, которые бы могли найти средства и достигнуть цели, то за это мы прежде всего должны быть благодарны системе наших публичных школ и нашим университетам» (Dr. Wiese. Deutsche Briefe uber die Englische Erziehung. Berlin, 1855. S. 37).
Воспитание бедного класса, на которое начали теперь обращать в Англии большое внимание, не изменяет аристократического характера английского воспитания. Это не более чем милостыня, бросаемая богачом бедняку, подвиг христианского милосердия, с которым английский джентльмен так умеет связать свою родовую гордость, и, наконец, благоразумная мера предупредительной полиции и финансовый расчёт общества, которому известно, что содержание в тюрьме, куда бедняк чаще всего попадает по невежеству, обходится дороже его воспитания. Уничижительное название «Школа в лохмотьях» (ragged schools) одно уже указывает на характер этого воспитания.

Д. Кемп ― Школа для бедных в Глостере
Но едва ли воспитательная филантропия англичан успеет справиться с диким невежеством пауперизма. Это ужасное явление возрастает в грозных размерах. Оно, правда, умерилось на время уничтожением пошлины с хлеба и выселением в Америку, которое более имеет значения для Ирландии, нежели для Англии, но это временные паллиативные меры. Теория Мальтуса, грозная для всех и не опровергнутая никем, для Англии уже не теория, а самый настойчивый вопрос, который ежеминутно стучится в двери и, как сказочное чудовище, требует новых и новых жертв. Мы верим, что люди разгадают и эту загадку сфинкса, но покуда ещё она не разгадана.
Глава IV. Общественное воспитание во Франции и два слова о методе Жакото
Гораздо труднее определить характер французского общественного воспитания именно потому, что в нём мало характера. Беспрестанная смена правительств и систем управления не осталась без влияния и на общественное воспитание Франции.
Первая революция разрушила до основания вековое здание французской педагогики, которое было сильно запечатлено характером католицизма и схоластики. Наполеону, великому и в этой области, приходилось всё создавать, и он положил твёрдые основы новому устройству общественного воспитания во Франции. После него каждое новое правительство усиливалось переделать его создание сообразно своему характеру и своим целям, но ни одно из них не могло или не решалось уже оторваться совершенно и открыто от великой наполеоновской мысли, а только старалось незаметными изменениями извратить её по-своему. Но никогда ещё она не была так изуродована, как в последнее время.
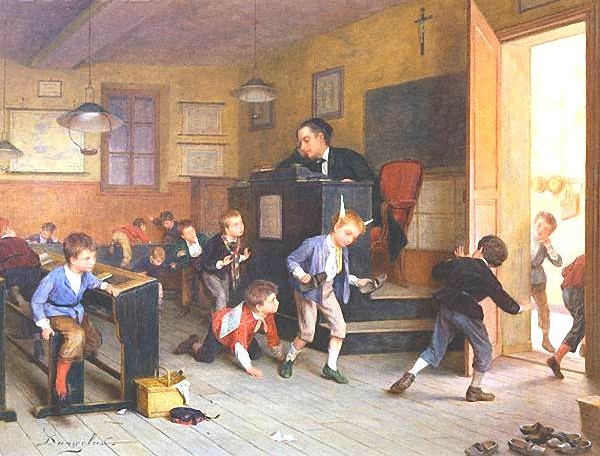
А. А. Даргелас ― Маленькие негодники
Наполеоновская идея общественного образования была достойна гениального человека и носит на себе следы характера Франции того времени, лучшим выражением которого был сам Наполеон.
Наполеон высоко ценил народное образование и не побоялся дать ему самостоятельность. Убеждённый в том, что образование — единственный якорь спасения для Франции, разрушившей все прежние основы своей народной жизни, он старался оградить его от влияния административных и политических соображений. Казалось, он позабыл свой обычный эгоизм, когда приступал к устройству общественного воспитания, и, понимая, что одно только прочное образование может спасти Францию, хотел сделать из него самобытное народное учреждение, не зависящее от борьбы партий и политических переворотов.
Средоточием всей системы народного воспитания Наполеон сделал свой императорский университет; но слово «университет» почти у каждого народа имеет своё особенное значение, а у французов совершенно оригинальное, и мы должны объяснить его.
Университет в германском смысле слова есть собрание нескольких факультетов, связанных между собой общим управлением. Главнейшая цель его — дальнейшее развитие науки во всех её отраслях и передача её высших результатов посредством живых чтений. Германские университеты — это посредники между наукой и обществом, открывающие учёным возможность излагать публично результаты своих кабинетных трудов. Воспитательной цели они вовсе не имеют, и даже самое образование молодых людей не всегда составляет их главную задачу, и по крайней мере при встрече с интересами науки всегда уступают ей место. Таким образом, кафедры германских университетов часто выступают не столько органами образования, сколько органами науки, и многие из них в этом отношении достигали высокого значения.
Университет Эдинбургский и новые английские университеты также устроены более или менее по германскому образцу. Но древние университеты Англии, Оксфорд и Кембридж, в противоположность германским являются чисто воспитательными учреждениями. В них почти нет факультетов, и коллегии их не более, как высшие школы, принимающие к себе на воспитание молодых людей и дающие им высшее образование. При таком направлении этих университетов понятно, почему деление на факультеты не могло в них установиться и почему чтение лекций составляет в них редкое исключение. Воспитанники коллегий занимаются отдельно и под руководством выбранных ими наставников готовятся к экзамену на учёную степень, если имеют желание получить её, что тоже не всегда составляет цель университетского воспитания.
Франция не имеет университетов ни в значении английском, ни в значении германском. Высшие учебные заведения (l'instruction superieure, les hautes etudes) заменяются во Франции отдельными факультетами, которые ничем не соединены между собой и находятся часто в разных городах. Университетом же в наполеоновском смысле этого слова называется во Франции всё учёное и учебное государственное управление, которому Наполеон хотел придать самостоятельность корпорации, живущей самобытной жизнью. И хотя императорский университет был причислен к министерству внутренних дел, в котором он и оставался до 1824 г., но он зависел от министерства почти только в одних финансовых вопросах, составляя сам по себе совершенно отдельное и самостоятельное учреждение. Настоящим главой всего университета был университетский гроссмейстер (grand maftre de l'universite), который во всех внутренних делах университета и во внешних его сношениях совершенно не зависел от министерства. Но власть его ограничивалась университетским советом (conseil de l'universite), состоявшим из 30 членов, из которых 10 занимали свою должность пожизненно (conseillers titulaires), a 20 избирались самим гроссмейстером на год (conseillers ordinaires). Но и те и другие непременно должны были принадлежать к педагогическому ведомству. Этот совет в большей части случаев, и именно во всех делах, касающихся внутреннего управления, утверждения планов учения, назначения экзаменов и удаления от должности лиц учебного ведомства, имел голос решительный. В случае несогласия с решением совета гроссмейстер имел право подачи апелляции в государственный совет. При совете находились генеральные инспекторы по учебной части, посещавшие и ревизовавшие учебные заведения в Париже и провинциях.
<...> Мы не будем излагать здесь всей системы французского учебного ведомства и скажем только, что если оно может чем-нибудь похвалиться, так это необыкновенной централизацией, доведённой до того, что каждое элементарное училище отражает в себе малейшую перемену в министерстве, а таких перемен приходилось во Франции до сих пор на каждый год по нескольку. Спокойствие, независимость и последовательность, которые так необходимы науке и воспитанию, совершенно оставили французскую педагогику, и политическая лихорадка вполне завладела ею.
Вместе с тем народ потерял всякое уважение к воспитанию, школам и педагогам, и, может быть, нет другой страны в мире, в которой бы, как во Франции, народ так мало ценил пользу воспитания. Провинции и города несут тягость поддержки коллегий и элементарных училищ с явным отвращением и рады всякую минуту сбросить с себя эту тягость на руки правительства или поручить эту заботу иезуитам, которые берутся за неё так охотно. В то же самое время нигде так не велика потребность хорошего общественного воспитания, как во Франции, где семейное воспитание существует как редкое исключение и где родители стараются как можно скорее сбыть детей в пансион или коллегию. Во всех французских коллегиях, государственных и городских, которые, впрочем, подчиняются одному и тому же управлению, воспитанники живут в самых заведениях или в частных пансионах, находящихся при коллегиях, которые во всех сношениях с коллегиями заменяют воспитанникам родителей. Вольноприходящие в коллегиях, в противоположность гимназиям нашим и германским, составляют незначительное исключение. Понятно, какую важную роль должно бы играть общественное воспитание во Франции, заменяя семью такому множеству детей и молодых людей; но семейного ничего нет во французских заведениях: это какие-то казармы, в которых новые поколения рано привыкают к тому лёгкому эгоизму, которым отличается француз, редко бывающий хорошим семьянином.

Х. Браун ― Урок слова Божьего
<...> Французское министерство народного просвещения каждый год выдаёт программу предметов преподавания по всем подведомственным ему учебным заведениям и не только определяет писателей, которые должны быть прочитаны в этом году, но даже назначает те страницы в них, которые должны быть переведены, и те, которые должны быть выучены наизусть или разобраны. Оно каждый год печатает билеты для экзаменов во всех коллегиях и заранее назначает темы для сочинений — однообразные, для всех заведений одного разряда. Из этого выходит та существенная польза, что каждый чиновник министерства, взглянувши на часы, может сказать с уверенностью, что в этот час во всех гимназиях Франции переводится или разбирается с одними и теми же комментариями (которые также ежегодно определяются министерством) одна и та же страница Цицерона, или пишется десятками тысяч рук сочинение на одну и ту же тему, с непременной обязанностью подражать той или другой странице Боссюэ или Фенелона. Билеты экзаменов всех заведений публикуются заранее, и досужие промышленники сбавляют друг перед другом цену, за которую берутся приготовить юного питомца к экзамену, или, лучше сказать, к ответу на билеты, опубликованные министерством, зная наверное, что никто у него более ничего не спросит. Сотни руководств (manuel) пишутся спекуляторами именно для этой цели.
Понятно, что при таком устройстве педагогической части она, вместо того чтобы иметь влияние на общество, сама служит средством для целей, вовсе чуждых воспитанию и науке. Француз поступает в общественное заведение прежде всего потому, что его пребывание в семействе стесняет родителей, которым ещё самим хочется пожить в своё удовольствие. Он учится отчасти для того, чтобы приобресть те технические познания, которые могут понадобиться ему в жизни — отчасти для того, чтобы получить известный лоск, необходимый образованному человеку в обществе, но более всего для того, чтобы отличиться на экзамене, прочесть своё имя в провинциальных или даже парижских газетах и приобресть по экзамену право на занятие той или другой должности.
Самые школы более служат и спекулируют, чем занимаются воспитанием. Наперегонки одна перед другой стараются они выставить напоказ образцовых воспитанников, не заботясь об остальных, которые целыми толпами только растут в классах, пока родители увидят, что время уже взять их оттуда. Педагогическая дисциплина вся направлена к тому, чтобы развить самолюбие воспитанников и заставить соревновать друг другу тех из них, которые по природным своим способностям могут выйти на эту арену; остальные должны сидеть смирно и не мешать. Талантливых мальчиков, на которых предвидится возможность отличиться, принимают даром в самые дорогие пансионы при коллегиях, даже готовы платить за них деньги; об остальных торгуются почти что с аукциона: «Кто возьмёт меньше?» Провинциальные же и городские управления заботятся только о том, как бы подешевле обошлась им учебная часть.
Классические языки и классическая литература составляют основание и французского общественного воспитания. Но француз прибавляет к древним классикам и своих собственных и изучает тех и других по-своему, чаще всего на память. Он не любит углубляться в грамматические и филологические тонкости, ему мало дела и до древней классической жизни. Он слегка пробегает содержание древней литературы, но выучивает наизусть эффектные места и прежде всего кидается на фразу: подмечает её, заучивает, цитирует при всяком удобном случае. Так же поступает он и со своими доморощенными классиками, изучение которых занимает большую часть его школьной жизни. Он выучивает наизусть целые тирады из Фенелона, Боссюэ, Масийона, Монтескьё, Вольтера, Паскаля, Корнеля, Расина, Мольера, Бюффона, Лабрюйера, Мальбранша, Арно... и других писателей из длинного ряда своих классиков и пишет сочинения их фразами.
Зато как и обработал он свою фразу! Она готова у него на всякий случай, на всякую мысль, на всякий оттенок мысли, и ему остается только брать её, всегда готовую, острую и ловкую. В богатстве фраз ни один язык не может сравниться с французским. Оттого так легко и приятно писать на этом языке обыденные вещи, украшая пустейшую мысль чужим остроумием, и в то же время так трудно выразить с точностью новую идею, для которой ещё не готова фраза! От этого, может быть, так много писателей в современной Франции и так мало между ними оригинальных.
Богатство фраз много мешает определённости и силе языка. Готовое выражение, ловкое и красивое, так и просится под перо, а между тем оно никогда так не передаст всех форм мысли, как то, которое родилось вместе с мыслью.
Француз с любовью занимается математикой, находя в ней гимнастику для своего рассудка, но историю и географию чужих государств он пробегает мельком. Всякая же система не его дело. Вся классная дисциплина основывается с одной стороны на принуждении и на развитии самолюбия с другой. В самолюбии французская педагогика нашла сильнейший рычаг и работает им беспощадно. Для этой цели французские наставники изобрели множество гениальных средств: жалуют своих воспитанников орденами, производят их в чины и печатают их имена в газетах.
Народность, изгнанная из общественного воспитания, проглянула в ней сама собой, но проглянула во всей своей дикости. «Гони природу в дверь, она влетит в окно», но, может быть, оставит за окном лучшую свою сторону и принесёт одни свои слабости.

А. А. Даргелас ― Кругосветное путешествие
Высказав слабые стороны общественного воспитания во Франции, мы должны указать на блестящую его сторону. Если учёное образование, общее умственное развитие и воспитание нравственности и характера мало достигаются французским образованием, зато можно сказать с убеждением, что техническая часть учения процветает во Франции. Французские технические учебные заведения служили образцом для заведений того же рода в других государствах Европы. Но и в настоящее время трудно указать на какое-нибудь техническое учебное заведение в Германии или Англии, которое могло бы соперничать с парижской Политехнической школой или с парижской же Центральной школой искусств и мануфактур.
Мы не намерены здесь входить в подробности этих заведений, но укажем только мимоходом на те блестящие результаты, которые достигаются в них.
Мысль, положенная в основание парижской Политехнической школы, необыкновенно удачный состав её полной и многосторонней программы, связь её со специальными техническими школами Франции — всё показывает необыкновенную способность французов в этом деле. Зато и результаты соответствовали гениальному плану. Политехническая школа основана в 1794 г., и до 1836 г. она дала государству 4036 человек прекрасно образованных техников. Несмотря на обширность программы и трудность выпускных экзаменов, из 100 воспитанников школы не более трёх или четырёх человек каждый год не оканчивали курса, и из 120 человек, окончивших курс в 1836 г., только девять не поступили на государственную службу. Сколько талантливых артиллеристов, инженеров, механиков, математиков дала эта школа в своё шестидесятилетнее существование! Может ли другое техническое заведение в Европе похвалиться подобными результатами?
Но образование хороших техников составляет ли единственную задачу общественного воспитания? Если г. Дистервег говорит, что можно быть глубоким учёным и вместе с тем никуда не годным и безнравственным человеком, то гораздо с большим правом мы можем сказать, что можно быть прекрасным техником и никуда не годным членом семьи и вредным гражданином государства. Моральная сторона той части французского народа, которая пользуется благодеяниями общественного образования, ни в ком не может возбудить зависти. Смотря на явления личной нравственности, выброшенные на позорище света последними переворотами во Франции, можно с уверенностью сказать, что воспитание, достигающее блестящих результатов в передаче технических познаний, приносит мало существенной пользы народу и государству, каких бы прекрасных техников оно ни давало им.

А. А. Даргелас ― Маленькие курильщики
Внешний блеск, тщеславие и материальная польза — характеристические черты французского общественного воспитания.
Мы позволим себе здесь маленькое отступление, которое, как ни покажется оно странным, не менее того поведёт нас к цели и даст нам возможность собрать в одну мысль набросанные нами черты французского воспитания.
Кто не знает знаменитой методы Жакото, наделавшей в своё время столько шума в Европе и имеющей ещё до сих пор приверженцев везде, в том числе и у нас? Но Жакото ничего не изобрёл нового — он только соединил в своей методе и довёл до крайности все характеристические черты французского образования.
Мы видели уже, что заучивание наизусть целых тирад из греческих, римских и французских классиков и словесные и письменные подражания им составляют до сих пор, и составляли задолго до Жакото, главное занятие воспитанников французских коллегий и лицеев, но вместе с тем идёт в них, хотя слабо, и изучение грамматики. Жакото отбросил грамматику, заметив её бесполезность во французском воспитании, схватывающемся прежде всего за фразу, и остался при одном заучивании наизусть, ловле фраз и подражаниях.
Для французского воспитания, в противоположность германскому, ищущему умственного развития, и английскому, которое всё направлено на образование характера, главную цель составляет передача технических познаний. Каким бы путём ни достигалась эта цель, всё равно — лишь бы достигалась скоро и верно. Но схоластические предания заставляли французских педагогов терять время на грамматику, логику, философию и тому подобные предметы, не дающие никакой технической пользы. Жакото отбросил схоластику и стал быстрее и вернее достигать цели французского воспитания.
Заставляя беспрестанно писать подражания классическим писателям Франции и имея единственною целью наполнить память воспитанников готовыми, умными, острыми фразами и эффектными тирадами, французские педагоги совестились ещё оставить риторику, теорию словесности и тому подобную схоластическую ветошь. Жакото прямо пошёл к цели и прямо схватился за подражание и фразы.
Французские педагоги более всего любят пустить пыль в глаза и дорожат теми воспитанниками, на которых могут показать чудеса своего воспитательного искусства, оставляя бесталантливых с тем, с чем они пришли в школу. Жакото и жакотисты налегли на счастливую память нескольких детей и показали такие воспитательные чудеса, которые и не снились прежним французским педагогам: двенадцатилетние мальчики стали у них писать слогом Фенелона и Лабрюйера.
«Пишут! Чего же больше?» — говорят жакотисты скептикам, и в этом ответе отражаются как в фокусе все черты французского воспитания.
Французская система общественного образования имеет свою хорошую, блестящую сторону. Метода Жакото оказала истинную услугу изучению языков, убедив большинство, что прежде должно получить некоторый навык в языке, а потом уже изучать его грамматические особенности, и этим советом прекрасно воспользовались многие новые методы изучения иностранных языков.
Но ни метода Жакото (в своей чистоте), ни французское воспитание, достигая цели, не разбирают дороги, по которой идут к ней. «Скучно, правда, учить наизусть, — говорят жакотисты, — но зато какие-нибудь шестьдесят страниц — и цель достигнута! 5–6 месяцев скуки — зато какие результаты!» Эти 5–6 месяцев для мальчиков, не обладающих блестящей памятью, следовательно, для большинства в общественных заведениях, превращаются в 5–6 лет, и, чтобы идти вперёд, необходимо бросить большую половину класса и, оставив её безмолвно расти на скамьях, идти вперёд с остальными, как это и делается во французских коллегиях. Скука, конечно, яд для взрослого человека, не только для ребёнка, но зато посмотрите, как он заговорит по-французски языком Телемака!
Теперь ещё два слова о подражании слогу знаменитых писателей, играющих такую важную роль и во французском воспитании, и в методе Жакото. Напрасно бы вы стали объяснять французу или жакотисту, что подражание никогда не выработает того слога, который, по выражению Бюффона, есть сам человек; что если бы писатели подражали друг другу, то это было бы невыносимо скучно; что лучше писать неловко, тяжело, да по-своему, чем чужими готовыми фразами; что это убило французскую литературу; что из собственного своего тяжёлого слога вырабатывался слог великих писателей и даже просто дельных людей, а из чужих готовых фраз выйдут только фразы, которыми так обильна французская литература, и более ничего не выйдет. Напрасно вы говорили бы всё это: жакотист укажет нам на своего двенадцатилетнего воспитанника, который пишет слогом Фенелона, Лабрюйера, Масийона или, прочитав 20 страниц любого романа, передаёт вам в 15 или 10 минут их содержание и тем же самым слогом, которым он написан. Чего же вам более? Цель достигнута!
И это было бы совершенно справедливо, если бы дело шло о попугае, а не о человеке. Попугай мог бы учить и не думать, без опасности для своего мозга, но человек, и особенно ребёнок, не может безнаказанно долбить без смысла несколько лет шестьдесят страниц какой бы то ни было умной книги, потому что нет такой книги, шестьдесят страниц которой могли бы дать ему достаточно пищи на то время, пока их выучишь наизусть.

Т. Э. Дюверджер ― Урок
Здесь уже метода Жакото расходится и с французским техническим воспитанием; изучение математики, химии, механики оставляет неразвитой только нравственность, но не умственные способности человека, метода же Жакото выучивает учить и не думать о том, что учишь, усиливает механическую память насчёт рассудка и сознания.
Глава V. Общественное образование в Северо-Американских Штатах
Общественное образование в Северной Америке, по мнению одного шведского педагога (The Educational Institutions of the United States, translated from the Swedisch of P. A. Sujestrom, by Frederica Rowan, London, MDCCCLIII), с прекрасной книгой которого мы думаем скоро познакомить русскую публику, составляет дальнейшее развитие английского, происшедшее вследствие освобождения американского общества от тех исторических основ, которых так упорно держится Англия. Но мы не можем вполне согласиться с этим мнением, потому что в самой основе североамериканского общественного образования лежит новая мысль, совершенно чуждая Англии.
Правда, схоластические формы английской педагогики перешли и на американскую почву, на которой они глядят какими-то странными развалинами посреди деятельности в высшей степени современной, но общественное образование в настоящем значении, public schools, grammar-latin and high schools, появляется в Америке под влиянием совершенно новой мысли. Она, конечно, не успела ещё выработать для себя новых педагогических форм и довольствуется видоизменением английских, но всё более и более стремится к самостоятельности.
Прежде, однако же, чем мы приступим к очерку североамериканского общественного образования, мы должны предупредить читателя, что слова наши не могут относиться ко всем штатам вообще, но только к главнейшим свободным штатам, и преимущественно к тем, которые составляют так называемую Новую Англию. В Северо-Американских Штатах всё находится ещё в процессе создания, и особенно в общественном образовании, за которое американцы только недавно принялись со своей обычной энергией. Мы будем стараться схватить те характеристические черты этого образования, которые уже выказались с некоторой определённостью.
Начало общественному образованию Союза положили ещё первые выходцы из Англии, отцы-пришельцы (pilgrim fathers), как их называют американцы. Эти начала были по наружности довольно ничтожны и ограничивались несколькими элементарными школами, устроенными в сараях, срубленных наскоро. Но тем не менее они обещали уже богатые плоды. Первые североамериканские учреждения на пользу образования дышат пуританской строгостью, напоминающей лучшие дни Рима, и тем уважением к образованию, тем признанием его необходимости для каждого человека и важности его значения в государстве, которыми везде отличались первые учреждения протестантизма*.
*Где только ни укоренялся протестантизм — в Германии, Швейцарии, Шотландии, — везде появлялись начатки государственной системы общественных школ. Шотландия и теперь представляет в этом отношении странную противоположность с Англией. Шотландский парламент уже полтора столетия тому назад учредил общую для всего королевства систему приходских школ, о которой ещё и теперь не думает парламент Англии, предоставляющий общественное воспитание частным усилиям (Report on Education in Europe, by Dallas Bache. Philadelphia, 1839. P. 176).

Это государственное значение образования, с одной стороны, как обязанности государства в отношении граждан, а с другой, как обязанности граждан в отношении государства, родившееся вместе с протестантизмом, не имело возможности вполне утвердиться в Германии и осталось там на степени отвлечённой идеи. Не образование граждан, но образование людей и христиан вообще составляет цель германских правительств в общественном образовании, а потому существеннейшая часть его, народные элементарные школы, остаётся там со времени Лютера и до сих пор почти исключительно в руках духовенства. Англиканское духовенство, наследовавшее многие из учреждений католицизма, считает за собой право народного образования, которое оспаривается у него не правительством, но частными лицами и частными обществами. Только в Северо-Американском Союзе общественное образование могло приобрести вполне государственное значение.
Это и не могло быть иначе. Государство, вполне зависящее от своих граждан, не имеющее даже тех исторических опор, на которых покоится Англия, естественно должно было позаботиться, чтобы граждане его были образованны. От этого зависит не только направление, но и самое существование Союза, демократические начала которого развились до последних пределов.
Но вначале, когда Северная Америка только что отделилась от своей метрополии, эта потребность не чувствовалась так сильно. Продолжительные войны, следовавшие за отпадением, долго поддерживали энтузиазм народа и вместе с политикой долго поглощали всё его внимание. За войнами и первыми хлопотами по устройству нового государства последовало такое быстрое развитие промышленности, которое увлекло за собой все нравственные и физические силы рождающегося народа.
Вследствие этих причин североамериканцы долго довольствовались суровыми педагогическими учреждениями своих предков и не без любви, обличающей в них англосаксонскую кровь, смотрели на свои полуразвалившиеся школы времён первого переселения. Но готические башни Оксфорда и Кембриджа стоят долее деревянных сараев. Новая же эмиграция, вызванная по большей части бедностью, а не силой убеждений, которая заставляла пуритан покидать свою родину, приносила с собой ежегодно большой запас невежества и пороков. Толпы этих новых переселенцев, умножаясь в громадных размерах и получая права гражданства без привычки пользоваться этими правами и без понимания сопряжённых с ними обязанностей, вносили в рождающийся Союз семена гибели и разрушения. Опасность была велика. Запрудить этот грязный поток, льющийся из Европы, значило бы отказаться американцам от своих принципов и от того неслыханного в истории разрастания государства, которое поражало изумлением Европу. Американцы решились очистить этот поток образованием и принялись за дело с той быстротой и с той неутомимой энергией, которыми отличаются они во всех делах. Они припомнили прежние строгие пуританские правила, по которым образование признавалось обязательным для каждой общины в отношении его членов и для каждого отца семейства в отношении его детей, и развили эти правила в государственную систему*.
*Протестантское правило, что каждый отец семейства должен посылать своих детей по достижении ими известного возраста в общественную школу, было перенесено пуританами и в Америку, но они сообщили этому правилу известную суровость своего характера. Так, например, в уголовный кодекс Коннектикута был внесён в 1650 г. следующий закон: «Если человек, имеющий более шестнадцати лет и обладающий здравым рассудком, осмелится бранить отца или мать или наложит на них руку, то он должен быть казнён смертью, исключая того случая, если будет доказано, что родители совершенно пренебрегли его воспитанием» (The Educational Institutions of the United States. P. 26).
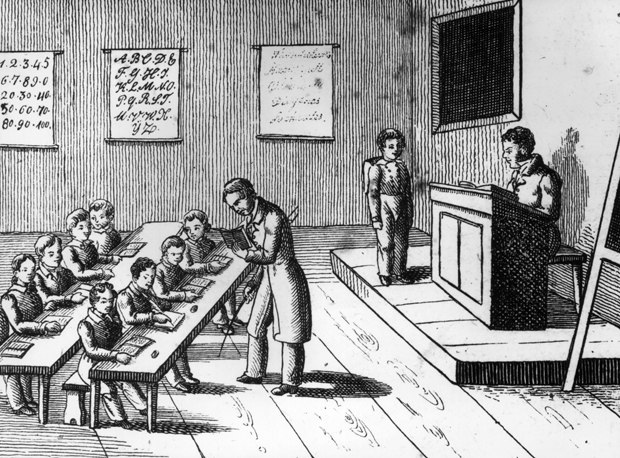
Реформа в общественном образовании Северной Америки началась с президентства Джэксона (которое относится к тридцатым годам нашего столетия) и продолжается неутомимо до настоящего времени. В эти двадцать пять лет американцы сделали столько для общественного образования, что гордость, с которой они указывают иностранцам на свои школы, весьма понятна. Один из первых вопросов, который делает иностранцу всякий американец и даже американская леди или мисс: «Видели ли вы наши публичные школы?»
Правда, что в Америке и теперь существует ещё довольно сильная партия консерваторов, видящих в образовании, согласно с английским образом мыслей, дело совершенно частное, в которое не имеют права вмешиваться правительства штатов, и право учиться или оставаться невеждой одно из личных и неприкосновенных прав человека; но это мнение слабеет с каждым годом перед опасностью, которой грозит Америке эмиграция. Фанатическое представление англичан о личной свободе уже склонилось перед понятием государственного долга. Издержки на народное образование вошли в бюджет государственных расходов и заняли в нём первое место. В Нью-Йоркском штате, например, издержки по администрации составляли в 1852 году 34576 долларов, по юстиции — 107956 долларов, по законодательству — 151703 доллара, а по образованию —1700820 долларов. В Массачусетсе на народное образование употребляется 865859 долларов, а на всё остальное управление — 166821 доллар. Жалованье президента Массачусетского штата (2500 долларов) менее, чем жалованье учителя «высшей школы».
Но, отказавшись от английского понятия об общественном образовании как о деле частном, североамериканцы нашли средство примирить строгость принудительного образования пуритан с отвращением североамериканских консерваторов от централизации. Обязанность заводить школы признана за каждой общиной*, которая только имеет сто семейств или хозяйств, но зато и всё управление школой, её хозяйственная и её педагогическая часть находятся в руках самой общины.
*Мы так перевели американское слово town, которое нельзя перевести словом «город» (city), потому что у североамериканцев нет сёл в противоположность городу, а отдельные поселения, напоминающие наши малороссийские хутора, причисляются к местечку и составляют с ним одну общину — town.
Сходство, которое имеют в этом отношении американские школы с первоначальными школами Германии, где также элементарное образование принудительно и для семейств, и для общин, только кажущееся. В Америке духовенство вовсе не принимает никакого участия в публичных школах, потому что религиозное воспитание совершенно отделено от светского и предоставлено собственной заботливости многочисленных сект, разделяющих почти каждый городок Северной Америки. Кроме того, в Германии всё устройство, управление и вся педагогическая часть первоначальных школ определены самыми подробными законами, в которых означены даже малейшие подробности преподавания*, в Америке же закон полагает только несколько условий, при выполнении которых он считает, что община выполнила свою обязанность в отношении образования. Всё остальное предоставлено самим общинам, или, лучше сказать, тому соревнованию общин одной перед другой, которое составляет в Америке один из сильнейших стимулов общественного развития. Право инспекции точно так же, как и в Англии, покупается правительством штатов у общинных школ за определённую сумму вспомоществования. Новые меры проводятся особенным правительственным органом, через убеждение членов общин публичными лекциями, брошюрами, примером, и надобно сознаться, что до сих пор такой образ действия, составляющий крайнюю противоположность с централизацией Франции, оказался успешным. Новая педагогическая мера, полезность которой перешла в убеждение публики, быстро переходит из одного штата в другой, и если несколько общин остаются при старых убеждениях, зато в остальных новая мысль проводится с той силой и верностью, которую сообщает действиям одно собственное убеждение.
*Загляните, например, в устав Фридриха II для элементарных школ (Handbuch der Preussischen Schulgesetzgebung, bearbeitet von Muller. Berlin, 1854. S. 203) или устав (1850) экзаменов в ремесленных школах, где даже определено, как должна быть перегнута бумага ученической тетради, где должно быть написано имя экзаменующегося (там же, ст. 103, § 11).
Другая особенность в устройстве общественного образования Северной Америки состоит в том, что там обязанность общин учреждать школы не ограничивается одними элементарными школами. По мере возрастания общины обязанности её в отношении общественного образования увеличиваются, а несколько общин вместе составляют учебный округ, который обязан содержать школу высшего разряда — английскую или латинскую и, наконец, высшую школу (high school), соответствующую в системе общественного образования немецким гимназиям.
В градации этих школ соблюдается постепенность: где останавливается курс элементарной школы, там начинаются курсы латинской или английской школы, для которых в свою очередь служит продолжением курс высшей школы*. Такая система школ составляет уже резкое отличие североамериканского общественного образования от английского, где школы не связаны между собой ничем и каждая существует отдельно сама по себе и где большая часть школ назначается для определённого сословия**. Американцы же, напротив, выражают стремление так устроить своё общественное образование, чтобы дети самых значительных лиц могли начинать свое учение с самых низших, публичных школ; и, судя по ходу вещей, можно предвидеть, что частные заведения, предпочитаемые до сих пор многими лицами богатого сословия, не выдержат конкуренции с публичными, или, по-нашему, казёнными, школами.
*Эта градация не соблюдается в Германии. Школы элементарная, реальная и ремесленная не находятся между собой в связи и назначаются для различных сословий. Одни только гимназии, в которые принимаются десятилетние мальчики, но курс которых требует некоторых предварительных познаний, приготовляют своих учеников к слушанию лекций в университете (Report on Education in Europe by Dallas Bache. P. 453).
**Многие древние школы Англии находятся в связи со старыми университетами и отчасти приготовляют своих воспитанников к поступлению в университетские коллегии.
Эти общественные заведения открыты для лиц обоего пола, и в этом отношении североамериканская высшая школа представляет для непривычного взгляда странное явление: в иных высших школах девушки и мужчины, от шестнадцатилетнего до двадцатилетнего возраста, сидят в классе вместе друг подле друга, занимаясь одними и теми же предметами. Само собой разумеется, что в низших и средних училищах и подавно допускается такое смешение полов, которое мы видим и в некоторых английских школах. И должно заметить, что как англичане, так и американцы делают это не по необходимости, а по принципу: они не видят особенной нравственной цели в разделении полов*. В некоторых местах Соединённых Штатов основаны, впрочем, для женщин особые высшие школы, но предметы преподавания в них, с небольшими уклонениями, одни и те же, как и в мужских высших школах, и в них тоже преподается латинский и часто греческий языки.
*De I'instruction primaire a Londres, par E. Rendu. See. edit. Paris, 1853. P. 42. Здесь, впрочем, идёт речь не об элементарной школе, как можно судить по заглавию сочинения, но о нормальном училище, где находятся воспитанники и воспитанницы, давно уже вышедшие из детства.

У. Гомер ― Чёрная доска
Вообще женское воспитание гораздо мужественнее в Америке, чем где-либо в Европе, и женщины рано начинают пользоваться той свободой, которая везде была бы сочтена опасной для их нравственности, но в Америке оказала только хорошие последствия. Привыкнув рано к независимости, североамериканские женщины выходят замуж обыкновенно довольно поздно и по убеждению, развитому опытностью, делаются прекрасными жёнами, хозяйками и матерями семейства. Может быть, некоторые из них и гибнут жертвами ранней свободы, но едва ли число этих жертв значительнее, чем в тех государствах, где женщины охраняются почти что монастырскими стенами до шестнадцати- или восемнадцатилетнего возраста. Но зато американская женщина, рано привыкнув к независимости, редко злоупотребляет ею впоследствии. Выходя замуж, она уже женщина развитая, а не ребёнок, позднее воспитание которого часто не удаётся мужу. Американцы не хотят приготовить из своих дочерей существ очаровательных для ловли мужей и успехов в свете, покупаемых часто ценой нравственности. Они нисколько не заботятся о той наивности, которая льстит грубому эгоизму мужчины и, оставаясь до старости, очень часто соединяется с самой лёгкой нравственностью, но хотят, чтобы воспитание женщины делало её существом самостоятельным и давало ей возможность по собственному убеждению идти прямым путём к жизни.
Далее высших школ не идёт система общественных учебных заведений, которую американцы начали строить снизу, а не сверху, в противоположность историческому ходу европейского образования. Высшие школы уже не приготовляют своих воспитанников в коллегии, академии, семинарии и университеты. Американцы руководствуются при этом той мыслью, совершенно противоположной германской, что наука — дело частное, а не государственное, полезная роскошь, которая и сама приходит вслед за образованием и богатством общества и которую правительство штата может поддерживать, если оно имеет на то средства, но не может и не должно вести вперёд само. Они также считают, что специальное образование, приобретаемое для специальных практических целей, должно покупаться тем, кто ожидает для себя выгод от достижения этих целей, и что это такой же промышленный расчёт, как и всякий другой*.
*Мы не говорим об исключениях из общего правила, потому что наша цель только выставить главные, характеристические черты в образовании каждого народа.
Американские высшие школы не имеют целью приготовлять своих воспитанников для поступления в специальные учебные заведения, но они хотят дать им окончательное общее образование, после которого они могли бы выбирать себе ту или другую карьеру*, а потому и самые программы высших школ чрезвычайно разнообразны. Одни из высших школ принимают совершенно университетский характер, считают себя наравне с коллегиями, получают право давать учёные степени; курс других не превышает обыкновенного гимназического курса; третьи, наконец, находятся только в самом зародыше.
*И в этом отношении американские высшие школы отличаются и от германских гимназий, и от английских древних школ.
В большей части высших школ преподавание главным образом основывается на изучении классических языков и классической литературы, но это изучение далеко не преследуется с такой исключительностью, как в Англии, и естественные и политические науки с каждым годом всё более и более получают места в американских программах.
Высшие учебные заведения носят в Америке английское название коллегий, академий, семинарий и университетов и все построены первоначально по английскому образцу. Кембриджский университет, например, напоминает сильно английский Кембридж или Оксфорд и также состоит из множества коллегий, из которых каждая живёт своей особенной жизнью и имеет своё особенное управление. Но эти коллегии, не связанные, как в Англии, своими вековыми статутами и привилегиями, приняли отчасти характер специальных заведений, напоминающих факультеты.
История всех этих высших учебных заведений, с немногими исключениями, одна и та же. Несколько лиц, пользующихся влиянием в обществе, замечая, что в какой-нибудь местности чувствуется потребность в высшем учебном заведении, открывают подписку, которая почти никогда не бывает неудачна. Грошовые и рублёвые пожертвования достигают иногда весьма значительных размеров*. Но, как бы сумма ни была мала, заведение открывается, если её только достаточно на то, чтобы нанять или купить дом и устроить две-три кафедры, остальное дополняет плата, взимаемая с учеников. Частные пожертвования не замедлят быстро расширить пределы заведения. Потом стараются приобресть выгодное законное положение для заведения. Оно делается корпорацией, и штат принимает на себя часть издержек, получая за это право инспекции. Кембриджский университет и Яльская коллегия, богатейшие учебные заведения Северной Америки, начались с самых незначительных пожертвований. Но потом многочисленные кафедры их появлялись одна за другой, и почти каждая из них носит название какого-нибудь лица, пожертвовавшего деньги для её основания. Но здесь не место входить в интересные подробности этих заведений, с которыми со временем мы надеемся познакомить читателей поближе. Заметим только чисто американскую особенность в их устройстве.
*Во множестве частных пожертвований на пользу общественного образования с Северной Америкой может соперничать одна только Англия.
Наблюдателя невольно поражает необыкновенное разнообразие программ всех высших американских учебных заведений. В них совершенно нет той научной системы, которую мы привыкли находить в университетах германского происхождения. Даже в Англии, где несистематичность программ объясняется тем, что многие кафедры, обладающие особыми статутами, основаны за двести и триста лет до настоящего времени, разнообразие в предметах преподавания не так велико, как в Америке. Здесь к историческому характеру заведений или жертвователя присоединяется ещё та необыкновенная подвижность, которая отличает американцев во всех их предприятиях. Прежде всего, они соображаются с обстоятельствами и требованиями минуты. Подарил ли кто-нибудь коллегии несколько хороших астрономических инструментов — и открывается подписка на кафедру астрономии; поселился ли где-нибудь поблизости замечательный физиолог — и ближайшая коллегия, в которой до тех пор вовсе не читались естественные науки, устраивает кафедру физиологии, а кое-где вы с изумлением встречаете кафедры стенографии и даже френологии. Это разнообразие так велико, что Сильестрём, например, отказывается сообщить нам о предметах преподавания в высших учебных заведениях Северной Америки и прибегает к перечислению, в скольких учебных заведениях читается астрономия, в скольких — физика и т. д.
Эта характеристическая черта американца, который пользуется первым попавшимся под руку обстоятельством и спешит всё вперёд и вперёд, отразилась и на личном составе учительской части в публичных школах Северной Америки. Учительская должность для немногих только составляет постоянное занятие. Публичные школы ежегодно меняют своих учителей и спешат воспользоваться способностями и знаниями человека, хотя бы даже навернувшегося случайно. Иногда они нанимают студента, прибывшего домой на вакацию; иногда (и очень часто) учительницей становится бедная девушка, которой надобно скопить приданое, чтобы отправиться потом в новозаселяемые штаты; иногда переселенец, который не может ехать далее. Иностранец, известный своей учёностью по какой-нибудь отрасли, случайно остановившийся в городе на несколько дней, непременно получит приглашение прочесть две-три лекции о своём предмете, и если он, наконец, ничем не занимается в особенности, но пойдёт осматривать школу, то его попросят рассказать ученикам всё, что он знает о своей родине, и иногда вопросы учеников могут сконфузить посетителя, потому что география — один из любимейших предметов американца.

А. Беттаньер ― Тёмные пятна
Не будем исчислять здесь все выгоды и невыгоды*, происходящие от такой беспрестанной перемены учителей, но укажем только на неё как на одну из характеристических черт американских учебных заведений.
*Невыгоды эти весьма значительны, как ни уменьшает их Сильестрём, несколько пристрастный к североамериканскому общественному образованию.
Другую характеристическую черту их составляют учительницы, которые преподают не только в низших и средних учебных заведениях, но даже в высших школах и коллегиях. Девушка восемнадцати или девятнадцати лет, преподающая алгебру или изъясняющая Цицерона перед аудиторией, состоящей из молодых людей её же лет, — чисто американское явление. Число учительниц в сравнении с числом учителей ежегодно увеличивается в Северной Америке, особенно в элементарных школах, где они, кажется, скоро совершенно вытеснят мужской пол. В Массачусетсе, например, по официальному отчёту за 1838 г. было учителей 2370 и 3591 учительница, а в 1850 г. учителей было 2437, а учительниц — 5238. То же самое замечается и в других штатах. И путешественники говорят, что надобно изумляться, в какой строгой дисциплине молодая учительница содержит целую школу воспитанников обоего пола, из которых некоторые старше её по возрасту.

У. Хомер ― Сельская школа
Совершенное отделение религиозного образования от светского, о котором мы уже упоминали, составляет тоже характеристическую черту североамериканского общественного образования. В Англии духовенство заведует весьма значительной частью народного образования, а школы Национального общества находятся в непосредственной связи с церковным управлением. Одно только Британское общество допускает в свои заведения все религиозные секты, не признавая ни одной из них господствующей и вследствие того не допуская и догматического изложения ни одной религии. В Германии, как мы уже говорили, всё первоначальное образование народа составляет право и обязанность духовенства. Но в Северной Америке существование множества разнообразнейших сект заставило отказаться повсюду в общественных школах от изложения догматов какой бы то ни было религии, и заботы о религиозном воспитании предоставляются самим сектам, которые весьма ревностно исполняют свою обязанность в этом отношении, подвигаемые ещё более сильной конкуренцией, существующей между ними. В общественных школах требуется только, чтобы преподавание было основано на христианских началах. В некоторых высших школах и коллегиях существуют богословские курсы под названием естественной религии или естественного христианства.
Особенной педагогической системы воспитания североамериканцы ещё не успели выработать: всё, что появляется нового по этой части в Европе, быстро переходит в Америку, но проникает в жизнь её не без сильной оппозиции, и многое отвергается как невыгодное. Особенно восстают американцы против нововведений из Германии, и педагогика их до сих пор носит более английский характер, хотя сильно изменённый демократизмом.
Развитие характера также составляет одну из главнейших целей американского воспитания, хотя эта цель не преследуется здесь с такой исключительностью, как в Англии, и достигается несколько другими средствами. Патриотизм, привычка участвовать в политической жизни общины и общинный selfgovernment рано развиваются в американском школьном населении. Путешественников невольно поражают эти толпы мальчиков со значками, появляющиеся на городских и окружных митингах и принимающие деятельное участие в борьбе партий. Школьные вопросы также часто решаются митингами, которым в некоторых школах предоставили определение наказания для провинившихся. По общему свидетельству, эти наказания отличаются скорее излишней строгостью, нежели слабостью, и учитель своей властью часто принуждён умерять их. В большей части школ, впрочем, господствует ещё прежняя учительская ферула, и телесные наказания находят до сих пор многих защитников в американских школах. Некоторые путешественники, привыкшие к более почтительному обращению детей, заметили характер своевольства в американских школьниках, но тем не менее школьная дисциплина в Северной Америке очень строга, и если мальчишки кричат на улицах, то очень смирно сидят в школе, и г. Сильестрём встречал в большей части заведений строгий порядок и дисциплину.

Ф. У. Эдмондс ― Двое провинившихся
Мы передали только те немногие черты североамериканской системы общественного образования, которые уже обозначились, но всё ещё оно представляет хаос, напоминающий собой вид одного из новых городов Америки, вырастающих, как грибы, посреди лесов и пустынь. Мы не можем отказать себе в удовольствии привести здесь описание одного из таких скороспелых городов — Огдёнсбурга, попавшееся нам в путешествии г. Ампера, потому что это описание даёт весьма верное представление о нынешнем состоянии общественного образования в Северной Америке.
«В этом только что родившемся городе, — говорит г. Ампер, — всё ново, всё неокончено. Это что-то вроде дома, который начали строить, комнаты в беспорядке, которые начали убирать. Представьте себе прямые, широкие, хорошо распланированные улицы, посреди этих улиц там и сям чёрная грязь, по бокам — деревянные тротуары, заменённые кое-где великолепными плитами; купы деревьев, принадлежащих к первобытному, непроходимому лесу; только что взрытые поля, которые уже приняты во владение, но ещё не обработаны, — и тут же рядом прекрасные сады и изящные коттеджи. Самая современная цивилизация появляется на почве, только вчера расчищенной, комфорт посреди дикости. Коровы пасутся возле модного магазина, в окошках которого выставлены Journal de Modes и портреты членов временного правительства Франции; тюки товаров на улице посреди пней только что срубленных деревьев; смесь удаляющейся дикости и промышленности, которая спешит занять её место... Вот что нашёл я на улицах Огдёнсбурга, прекрасно распланированных и наполовину уже застроенных. Эти улицы говорят мне о будущей судьбе города: их всегда делают такими широкими, длинными, правильными, потому что всегда рассчитывают, что город, который строится, будет большой город... Если один из моих читателей приедет через год в Огдёнсбург, то он не найдёт уже ничего из того, что я видел».
Таково же и современное состояние системы общественного образования в Северной Америке — полуразвалившаяся пуританская школа помещается рядом с новым великолепным приютом педагогики, на украшение которого американцы не пожалели денег.
Судя по общему характеру американцев, мы думаем, что эта печать новизны и какой-то временности никогда не сотрётся с их установлений. Они все спешат вперёд и строят новое с уверенностью, что следующее за ними поколение опять всё будет перестраивать. Здесь нет той английской прочности, которая рассчитывается на века и бережно сохраняет наследия столетий.
Глава VI. Народный идеал воспитания и его теория в Германии: её защитники и противники
Как ни кратки и ни поверхностны очерки систем общественного воспитания главнейших народов современности, которые мы здесь предложили читателю, но из них уже видно, что все эти системы, несмотря на множество одинаковых названий, сходство педагогических форм и единство учебных предметов, существенно различаются между собой. Мы видим далее, что это различие, отражающееся и во внешнем устройстве учебной части, зависит не от случайных обстоятельств, но выходит из более глубокого источника: из той особенной идеи о воспитании, которая составилась у каждого народа. Немец, англичанин, француз, американец требуют от воспитания не одного и того же, и под именем воспитания у каждого народа заключаются различные понятия. Различие это, не выражаясь определённо, тем не менее проглядывает во множестве особенностей, иногда мелких, но характеристических, показывающих направление общественного воспитания у каждого народа и ту невысказываемую цель, к которой оно стремится и которая определила самые его формы.
В основании особенной идеи воспитания у каждого народа лежит, конечно, особенная идея о человеке, о том, каков должен быть человек по понятиям народа в известный период народного развития.
Каждый народ имеет свой особенный идеал человека и требует от своего воспитания воспроизведения этого идеала в отдельных личностях. Идеал этот у каждого народа соответствует его характеру, определяется его общественной жизнью, развивается вместе с его развитием, и выяснение его составляет главнейшую задачу каждой народной литературы.
Всякий народ в своей литературе, начиная песней, пословицей, сказкой и оканчивая драмой и романом, выражает свои убеждения в том, каков должен быть человек, по его понятию. Он украшает этого идеального человека всеми лучшими качествами души своей, и если народный идеал человека не всегда сообразен с правилами строгой христианской нравственности, то это только потому, что сама христианская нравственность не вполне ещё укоренилась в том или другом народе; но каков бы ни был этот идеал, он всегда выражает собой степень самосознания народа, его взгляд на пороки и добродетели, выражает народную совесть.
В настоящее время, когда вся литература сосредоточилась в романе и выражение народности стало одним из необходимых условий его успеха, роман сделался эпической поэмой современной общественной жизни. Он так же необходим для объяснения внутреннего смысла её явлений, как необходимы творения классических писателей для объяснения истории Греции и Рима. Слово «роман» не должно вводить в соблазн сурового критика. Роман — литература современности, летопись общественной жизни, и для будущего историка нашего времени он будет таким же необходимым источником, как эпопея Гомера или комедии Аристофана для истории Греции.
В каждом из лучших романов есть свой видимый или скрытый Ахиллес, который, по юмористическому направлению века, редко вводится в роман в качестве действующего лица, но всегда присутствует в нём. Он выдаётся с большей или меньшей определённостью, как те изображения особенного рода живописи, которые являются светлым пятном на тёмном фоне картины: их не касалась рука художника, но для них-то и написана вся картина.
Кто же брал на себя труд сравнивать между собой лучшие произведения новейшей литературы у разных народов, тот, вероятно, согласится с нами, что литература каждого народа преследует свой особенный идеал человека и что этот идеал отражает в себе характер самого народа и развивается вместе с его развитием. В нём отражаются лучшей своей стороной все изменения в характере общества, но то, что казалось безукоризненно хорошим 50 лет тому назад, имеет в глазах современного человека совершенно другую цену.
Факты общественной жизни различных народов только подтверждают показания литературы. Идеал француза восемнадцатого века, времён революции, времён Наполеона, двадцать лет тому назад и современный не похожи друг на друга. Древний германский идеал, так превосходно выраженный в созданиях рыцарской литературы и потом блеснувший ещё раз в мастерском произведении Гёте «Гец фон Берлихинген», давно уже скинул свои тяжёлые латы и заменил их колпаком и халатом, но в последнее время его начинают уже беспокоить и эти латы кабинетной учёности. Идеал англичанина постояннее, но и он подвергается влиянию времени, и английский роман в продолжение столетия записывает на своих страницах все последовательные изменения этого идеала. Североамериканцы вырабатывают свой особенный идеал человека, который почти совсем отвык от английских манер и является существом необыкновенно оригинальным.
Нет сомнения, что народный идеал человека видоизменяется ещё в каждом народе по сословиям, но все эти видоизменения носят на себе один и тот же национальный тип в разных степенях его развития: это — отражение одного и того же образа в разных сферах общества.
Народный идеал человека, к какому бы веку он ни принадлежал, всегда хорош относительно этого века. Немногие в обществе бывают выше его (это редкие исключения), большинство ниже его, но в глубине души каждого шевелятся его черты. Сознавая всю недоступность этого идеала для себя лично, человек тем не менее берёт его за образец, когда начинает судить о других людях (на этом основана возможность общественного мнения); он желает также осуществления этого идеала в существах, близких его сердцу, и в этом чувстве коренится свойство тех требований, которые делаются обществом воспитанию. Естественно, таким образом, что эти требования должны различаться по народам и изменяться в одном и том же народе с его историческим развитием.
Большее или меньшее влияние понятий народа о воспитании на самое устройство общественного образования и его направление зависит от положения общества в отношении к общественному воспитанию и от большей или меньшей ясности самого понятия о нём, живущего в обществе. Чем определённее высказалось общественное мнение в этом отношении и чем в большей зависимости от этого мнения находится самая система общественного воспитания, тем более и яснее выражает оно народный характер. Но во всяком случае, как бы ни было удалено общество от дела воспитания и как бы ни чужда была ему система его, в ней непременно отразится народный характер.
Таков факт, но факт этот не признаётся или, лучше сказать, забывается теорией воспитания, стремящейся к единству системы.
В Германии, классической стране педагогической теории, где она развилась в многосложную науку, мысль о народности воспитания если иногда и высказывается вскользь, то никогда не оказывает влияния на самые правила педагогики, что, конечно, не мешает системе германского воспитания быть вполне народной на деле. Раумер, правда, в своей «Истории педагогики» проводит мысль, что идеал образования (Bildungsideal) каждого народа определяет цель и путь учения (des Unterrichts), но мысль эта не отражается в новейших педагогических сочинениях Германии, которые по-прежнему стремятся к созданию универсальной педагогической теории, да и сам Раумер не провёл вполне своей мысли до её практических последствий.
Германская педагогика думает строить свою теорию воспитания на основании общих свойств и потребностей человека. Она, конечно, заботится о приготовлении человека к общественной жизни, но разумеет под этим именем общественную жизнь какого-то абстрактного христианского народа и христианского государства вообще (des christlichen Staats).
Но для других народов самое христианство немецких педагогических теорий — не более как лютеранизм, со всей неопределённостью своих границ, которые переставляются всё далее и далее с необыкновенной лёгкостью.
Новейшим же германским теориям даже и обширные пределы нового лютеранизма кажутся слишком тесными, и они думают воспитывать человека вообще, гражданина какого-то абстрактного всеобщего государства, гражданина всего мира.

О. Пильц ― Безделье ― начало всех пороков
Образование этого отвлечённого идеала человека, отрешённого от всех конкретных исторических определений, составляет предмет немецкой педагогики, основание всех её теорий и цель всех её стремлений. Она от души верит в универсальность этого идеала и, создавая теорию его развития в новых поколениях, думает создавать универсальные законы воспитания, основанные на разуме, и обязательные, как законы науки, одинаково для всех народов.
Но мы смотрим на предмет со стороны, без увлечения его обработкой и видим в этих стремлениях к универсальности конкретнейшее выражение чисто германского характера, в этой универсальной науке — чисто немецкую систему воспитания, соответствующую как нельзя более немецкому характеру и совершенно противоречащую характерам других народов.
Взгляните ближе на этого универсального человека, гражданина мира, идеал германской педагогики, и вы убедитесь, что это не более как исключительный идеал германской жизни, идеал учёного, который и в самом деле является гражданином мира — общего для всего человечества мира науки. Стремясь к образованию человека вообще, немецкая педагогика совершенно последовательно, хотя и бессознательно, разрабатывает правила образования человека, живущего наукой и для науки, — разрабатывает идеал германской жизни. Так, характер германского народа, увлекая его от абстракта к абстракту, приводит бессознательно к самому яркому выражению германской народности.
Должно отдать полную справедливость немцам, что они довели свою национальную педагогику до такого совершенства, до которого ещё далеко всем прочим народам, и с величайшей последовательностью провели свою национальную идею, идею германской жизни, от элементарного образования до своих факультетских программ. Германское элементарное образование, которое с такой необдуманностью берётся иногда за образец другими народами, есть не более как подготовление к учёному образованию. С азбуки уже начинает приучаться немец к процессу отвлечения, а немецкий ремесленник, вышедший из реальной и даже элементарной школы, получает уже тот оттенок учёности, который кажется в нём для человека другой нации смешным и пустым педантизмом.
Германская педагогика (если не наука, то по крайней мере дорога к ней) — преддверие храма науки. Вся задача её состоит в том, чтобы как можно скорее ввести человека в мир науки и познакомить его со всеми его отделениями и закоулками, не позабывши ни одного. Задача трудная, потому что бесконечная область науки раскрывается всё дальше и дальше и становится всё полнее и полнее. Но самая трудность задачи немецкого воспитания вызывала рвение немецких педагогов, и должно отдать им справедливость, что в этом отношении они много сделали для искусства воспитания вообще (Die Licht-und Schattenseiten des Preussischen und Deutschen Schulwesens, von. I. Preis. Lissa, 1854. S. 7 – 23). В самом элементарном воспитании они стараются уже по возможности выполнить эту задачу, и все их элементарные учебники стремятся быть микрокосмами и на десяти или двадцати страницах познакомить ребёнка со всем миром. Средние учебные заведения готовят своих воспитанников к слушанию университетских лекций, а лекции — к самостоятельному занятию наукой — высшей цели всей немецкой жизни.

А. Анкер ― Школьный экзамен
Может быть, что самое это близкое отношение немецкого воспитания к науке ввело в ошибку немецких педагогических писателей, и они признали искусство воспитания наукой и свою систему правил воспитания — системой законов науки. Вместе с тем они совершенно последовательно перешли к другому силлогизму: если педагогика — наука, то рациональная система этой науки, обрабатываемая исключительно в Германии, обязательна одинакова для всех народов, и всё, что несогласно с её положениями, есть ошибка или отсталость. Для большинства германских педагогов система германской педагогики есть образец, к достижению которого стремятся другие народы.
Так, например, г. Прейс, решившийся отыскать пятна и в солнце немецкой системы воспитания, приводит бесконечное множество цитат в доказательство того, как высоко стоит эта система, особенно прусская, не только во мнении немецких педагогических писателей, но и во мнении иностранных педагогов, даже многих правительств и политических партий. Это совершенно справедливо. Не одни немцы считают Германию, и в особенности Пруссию, классической землей общественного воспитания. Многие правительства также разделяют это мнение, и можно указать множество педагогов Франции, Англии, Северной Америки, которые или по собственному своему убеждению, или по поручению своих правительств приезжали изучать на месте германскую систему общественного воспитания. Но этого мало: в Англии и Северной Америке мы видим весьма значительные партии, которые настойчиво требуют замены своих народных педагогических систем педагогикой Германии. Г. Бах, например, прекрасный отчёт которого мы цитируем выше, есть только представитель обширной партии приверженцев германской педагогики в Северной Америке. Само собой разумеется, что педагогические теории Германии находят себе усердных переводчиков на все языки и множество последователей в школах всех народов. Такое предпочтение вполне заслуженно, по крайней мере протестантской Германией. Раньше всех других стран обратила она внимание на общественное воспитание и внесла его в число важнейших элементов государственной жизни. Где только одолевал протестантизм, там везде общественное образование становилось одной из главнейших обязанностей правительства и церкви. Первые проповедники протестантизма не разделяли почти вопросов религии от вопросов народного воспитания, и первые государственные законы школьного устройства идут в Германии от времени Лютера и Меланхтона*. С тех пор протестантские правительства не ослабляли своих стараний в деле народного воспитания и неусыпно заботились о его дальнейшем развитии. Это было их славой и их гордостью. Лучшие умы Германии занимались делом народного воспитания, и вся педагогическая литература остальной Европы не составит и пятой части германской педагогической литературы. Она считает сотнями полные курсы педагогики и педагогические журналы, тысячами — отдельные монографии о разных предметах воспитания. Она может указать целый ряд знаменитых педагогов, имена и сочинения которых известны не в одной Германии. И эти вековые заботы не пропали даром: пределы науки широко раздвинуты детьми Германии.
*Уже в 1540 г. бранденбурский курфюрст назначает визитаторов городских школ, а в 1545 г. мы видим в Бранденбурге уже особое министерство просвещения (Report on Education in Europe, by Dallas Bache. P. 221-222).
Но в настоящее время Германия не хочет довольствоваться наукой, и во всех отраслях общественной жизни проглядывают зародыши нового направления. Германская педагогика не могла остаться равнодушной к этому голосу времени. Правительства и педагоги, правда, ещё немногие, начинают уже сомневаться в безукоризненном совершенстве своей учёной педагогики.
Мы не можем дать полной веры словам г. Рандю (De l'education populaire dans l'Allemagne du Nord, par E. Rendu. Paris, 1855): он слишком ревностный католик и не может беспристрастно судить о лютеранских землях, и в общественном воспитании Германии ему более всего понравилось то, что значительнейшая часть его находится в руках пасторов и консисторий. Но тем не менее многочисленные официальные факты, в истине которых нельзя сомневаться, показывают, что научное направление германских школ увлекло их слишком далеко. Приходский дьячок, излагающий в деревенской школе христианские догматы по Штраусу и Улиху, явление весьма характеристическое, но не совсем утешительное.

А. Анкер ― Деревенская школа
Множество же новейших школьных законов и министерских предписаний, приводимых г. Рандю, ясно доказывают, что такое исключительно научное направление германских школ пробудило серьёзные опасения со стороны правительств, пытающихся возвратить воспитание с той дороги, по которой увлеклось оно национальным характером.
Но для нас важнее то, что сама германская педагогика начинает сознавать свою национальную исключительность и делает попытки выйти из неё. Попытки эти ещё немногочисленны и слабы, и большинство германских педагогов продолжают ещё самодовольно наслаждаться совершенствами своей многосложной педагогической системы и с гордостью пересчитывать сотни педагогических сочинений на каждый предмет. Но нельзя не видеть, что сомнение в этих совершенствах и даже в самом существовании педагогики как науки начинает проявляться в умах более свежих.
Г. Дистервег, один из известнейших педагогов Германии, которого никак нельзя упрекнуть во вражде к науке, оглядываясь на страшную груду немецких педагогических книг, говорит: «Посмотрите на большую часть сочинений, написанных учителями и для учителей! Наполняется и согревается ли чьё-нибудь сердце при этом обзоре? Кто может извлечь из него силу для своей мысли, одушевление для важного подвига? Найдёт ли кто-нибудь в них дыхание жизни, самостоятельный образ мыслей и энергию? Переходят ли их мнения в убеждения, убеждения — в дела и вытекают ли их воззрения из фактов? Это по большей части холодные, бессмысленные груды печатной бумаги, и слог такой, что нечему удивляться, если люди, которые действительно живут и черпают жизнь из свежих источников живой литературы, видят в учителях заживо похороненных людей, осуждённых питаться такими продуктами, которые ни для кого более не годны» (Wegweiser fur deutsche Lehrer, von A. Disterweg. Essen, 1850. Erster Band, S. XXIX).
Далее Дистервег говорит: «И если мы сравним обработку педагогики как науки с тем совершенством, которого достигли другие науки, то мы не можем не видеть, что для педагогики ещё многое остаётся сделать. Очевидно, что она не выработалась ещё в полную систему, и нельзя указать ни на одно сочинение, в котором заключалась бы признанная всеми или вообще годная и испытанная система науки воспитания. В строгом смысле слова такая система ещё не существует. Мы имеем только отрывки её и предварительные работы».
Причины такого явления ищет Дистервег в том, что педагогика — наука (он всё продолжает называть её наукой) не самостоятельная (из себя самой черпающая своё содержание), но зависит от других наук, и преимущественно от психологии, которая ещё далека от совершенства (там же. С. 53). Далее он говорит, что только малейшая часть педагогики составляет науку. Мы же имеем основания думать, что и эта малейшая часть, единственно рациональная часть педагогики, принадлежит не ей, а другим наукам. Дистервег далее называет педагогику опытной наукой (Erfahrungswissenschaft), но такого особенного отдела наук опытных не существует. Всякая наука основана на опыте, раскрывающем для ума содержание факта. Но не собрание опытов составляет науку, а только те законы, которые выясняются опытом. Таких же законов педагогика насчитывает весьма мало, да и те принадлежат другим наукам.
Но ещё немного далее Дистервег сам произносит суд над педагогикой. «Всякий человек, — говорит он, — принадлежит известному народу и известному времени. Он должен быть воспитан по отношениям (?) к этому народу и для своего времени или, по словам Канта, для ближайшего будущего*. А потому воспитание должно заимствовать свои правила и законы от свойства народа и времени или истории. Если бы самая общая (чисто психологическая) часть воспитания действительно была уже обработана систематически, то и тогда она должна была бы получить различные оттенки и частью различное содержание по отношению к различным расам и народам земного шара и различным периодам развития одной и той же нации. Если бы, например, кто-нибудь захотел воспитывать азиатские современные народы по той же системе, как и новоевропейские, не обращая внимания ни на историю, которую прожил каждый народ, ни на религию, ни на государственное устройство, то, конечно, такое воспитание не достигло бы никакого счастливого результата (там же. С. 54).
*Но неужели педагогика решает участь этого ближайшего будущего? Нет, человек воспитывается для настоящего, будущее он сам себе сделает.
От этих воззрений уже недалеко до сознания национальной исключительности германской педагогики. Далее Дистервег говорит, что всё, что немецкая педагогика создала дельного, относится только к элементарному образованию в немецких школах и, таким образом, с бесконечного поля всемирного воспитания, на котором мечтала строить свои системы немецкая педагогика, переходит на самое тесное поприще воспитания в немецких элементарных школах (там же. С. 57. Самое заглавие сочинения показывает, что Дистервег назначает его для немецких учителей).
Здравый смысл привёл Дистервега к такому ограничению системы германской педагогики, объявлявшей долго претензию на всемирность и всеобъемлемость. Но мы ещё к этому ограничению должны прибавить, что и самое элементарное воспитание в Германии до того проникнуто германским характером, что правила его не могут быть приложены к первоначальному воспитанию у других народов.
Об университетах своей родины г. Дистервег имеет самое невыгодное мнение. «В объективно научном отношении наши университеты, — говорит он, — сделали многое; в субъективно-методическом (учебном?) — мало; патриотическое влияние их равняется нулю; а в нравственно-религиозном они действуют отрицательно». Хороша рекомендация! Но как ни много желчи в этом отзыве, самые враги Дистервега (а у него их немало) не могут не сознаться, что здесь есть своя доля правды.
Мы же скажем в защиту германских университетов, что, содействуя исключительно развитию науки, они в высшей степени выполнили своё народное назначение. Переменится направление Германии, переменится и направление университетов. Таким образом, мы видим, что сознание национальности начинает пробуждаться в самой теории немецкой педагогики, и надеемся, что скоро сами немцы откроют глаза тем педагогам Англии, Франции и Северной Америки, которые переносят на свою родину как образцы совершенства не только немецкие педагогические теории, но и самое устройство учебных заведений Германии.
Настоящий характер вещей всего скорее определяется сравнением, и характеристические черты немецкого образования нигде не выдаются с такой ясностью, как у тех немецких же писателей, которые посвящают свои добросовестные труды изучению общественного образования других народов.
<...>
Германская педагогика, увлечённая философским направлением, внесла его даже в элементарные школы, и если раннее умственное развитие детей невольно поражает в них наблюдателя, то он напрасно будет искать вне школы плодов этого развития. Развитие это было преждевременно, вызвано сообщением идей учителя ученику, а не самостоятельной работой над фактами, и потому редко приносит желаемый плод.

Ю. Герц ― Школьная дисциплина
Зародыши образов и будущих идей рано и насильственно раскрываются в душе ребёнка и теряют силу развития, которая заменяется каким-то туманным призраком. Это всё равно что раскрывать руками зарождающиеся почки цветов. Сравните искусственно и преждевременно развёрнутую розу с той, которая развернулась силой своей собственной зрелости, и вы поймете всю разницу между образом, созревшим самостоятельно в душе человека в форму идеи, и зародышем образа, преждевременно развёрнутым идеей другого.
Нельзя, впрочем, упрекнуть германскую педагогику, чтобы она мало заботилась о самостоятельности воспитанника в процессе воспитания. На десяти строках каждого нового курса вы встретите несколько раз слова «самостоятельность», «самостоятельное развитие» и пр. Но в том-то и беда, что она уж слишком много заботится об этом, слишком много копается в душе ребёнка. Самостоятельность развития, которая насильно вытягивается из души хитро придуманной методой, — только кажущаяся самостоятельность.
Творец не без намерения скрыл везде процессы жизни. Желая видеть растение, мы прячем семя его в землю, подготовленную для него заранее, и предоставляем природе, которая начинает свою тайную работу. Германская же педагогика с своими облегчающими методами хочет подглядывать действия природы и управлять ими: она не выпускает семени из рук и постоянно вытаскивает его наружу. Мудрено ли, что растение будет вяло, и если даст плод, то самый тощий. Такое наблюдение над развитием души полезно для науки (психологии), но вредно в деле практическом, каково воспитание. Здесь во многом остаётся руководствоваться опытом, не углубляясь в законы, пользоваться силами души, оставляя другим добираться, откуда идут они. Самая строгая логическая последовательность германских метод вредна для развивающейся души, которая не может уйти ни на минуту с своей работой в творческие глубины природы.
Но, говоря это, мы никак не хотим сказать, чтобы яд спекулятивности, о котором говорит Губер, не имел своей величайшей пользы. Как всякий яд, это меч обоюдоострый. Когда человек созрел и развился, когда характер его и воззрения определились, когда душа его полна уже множества обозначившихся образов, когда самостоятельная, творческая деятельность его уже началась, тогда он может смело браться за этот яд — он найдёт в нём полезную силу и овладеет им. Но что можно давать взрослому человеку, того нельзя давать ребёнку, что может оживить одного, то убьёт другого. Немецкая же педагогика сделала большую ошибку: внесла свой философский метод в учение элементарных школ и кормит им шестилетних детей.

Ф. П. Хиддеманн ― Школьный экзаменатор
Мы с намерением остановились ещё раз на немецком образовании и надеемся, что читатель простит нам это отступление ради той благой цели, для которой мы его сделали. Как бы часто и по какому бы поводу мы ни говорили о вреде немецкой спекулятивности в деле воспитания, всё ещё мы скажем слишком мало, чтобы успокоить свою совесть уверенностью, что мы сделали всё, что могли, для предотвращения зла, которое тем или другим путём проникает и к нам.
В настоящее время, когда педагогические убеждения наши только что начинают зарождаться, когда, может быть, кладутся основания и русской педагогики, нам ближе всего обратиться за материалом к нашим соседям, в классическую сторону педагогики, и вместе с ним занести к себе тот яд спекулятивности, от которого Германия конвульсивно старается освободиться во что бы то ни стало. Яд этот — мы настаиваем на сравнении Губера, — вредный в Германии, оказался бы у нас гибельным, потому что, не оскорбляя нашей национальной гордости, мы можем сознаться, что в деле науки мы дети перед Германией. Необыкновенная восприимчивость нашей славянской натуры только увеличивает опасность, и спекулятивная метода, не создав у нас великих учёных, может создать бесполезную и жалкую толпу верхоглядов, тем более неисправимых, что поверхность их покажется глубиной, пустота — полнотой и бессилие — силой. Правда и то, что другие свойства нашей натуры, наша славянская беспечность и наше богатство верных природных инстинктов не дадут у нас укорениться спекулятивной болезни, как укоренилась и распространилась она в философской Германии. Как бы ни прельстились мы немецкой системой, как бы ни овладела она нашим мышлением, мы никогда не перенесем её в наш характер и в нашу жизнь. Наша славянская непоследовательность, основания которой иногда чрезвычайно глубоки, спасёт нас. Но зачем же годы учения пропадут даром? Зачем сотня слабых натур из тысячи сделается жертвой чуждой нам системы, которая не принесла нам никакой пользы? Пусть Германия, как знает, сама разделывается с своей хитро обдуманной педагогикой, если она уже отслужила ей свою службу, нам же не нужны ни её болезни, ни её лекарства.
Но для нашего вопроса, решением которого мы здесь занимаемся, важно то, что ни Губер, ни Визе, ни Дистервег, ни Сельестрём не сознают исторической необходимости того порядка вещей, который они осуждают, не сознают, что немецкая система воспитания национальна точно так же, как и английская, и что обе они, являясь необходимыми последствиями характера народа и его истории, имеют свои дурные и хорошие стороны, но заменить одна другую не могут.
В ту же ошибку впадают и те иностранные писатели, которые посещают Германию с целью изучения её педагогических учреждений. По большей части они ослепляются стройностью немецкой системы, обдуманностью малейших её частей, полнотой программ и ранним учёным развитием молодого поколения. Г. Прейс, как мы уже видели, выписывает такое множество свидетельств из различных газет и путешествий, доказывающих, какой всемирной славой пользуется германская педагогика, что мы считаем себя вправе не доказывать этого факта.
Директор Жирардовской коллегии г. Бах, посланный из Северной Америки для осмотра педагогических учреждений Европы, прельщается также прусскими школами, находя возможность принять их за образец для школ американских. Он высказывает, правда, необходимость различных применений одной и той же системы воспитания у разных народов, но основание, от которого он отправляется, ложно. «Хотя, — говорит он, — нет сомнения, что общие начала воспитания должны быть основаны на началах человеческих деяний и, следовательно, должны быть общими для всех народов, но должно допустить, что система, возникшая из таких общих законов, требует значительных изменений при приложении её в различных странах» (Report on Education in Europe, by Alex. Dallas Bache. P. 4. – 242).
Он не видит, следовательно, что именно основания воспитания и цель его, а следовательно, и главное его направление различны у каждого народа и определяются народным характером, тогда как педагогические частности могут свободно переходить и часто переходят от одного народа к другому. Почему не пользоваться педагогической опытностью другого государства? Но это пользование оказывается безвредным только тогда, когда основания общественного образования твёрдо положены самим народом. Можно и должно заимствовать орудия, средства изобретения, но нельзя заимствовать чужого характера и той системы, в которой выражается характер. С другой стороны, чем больше характера в человеке, тем безопаснее для него всякое общество, и чем больше характера в общественном образовании народа, тем свободнее может он заимствовать всё, что ему угодно, у других народов.
Ложное основание вводит часто г. Баха в ошибку при оценке педагогических учреждений различных стран. Он восхищается немецкими школами, в которых всё так стройно и обдуманно, и не замечает в них того немецкого элемента, совершенно противоположного американскому характеру, который инстинктивно угадывается его согражданами, сильно вооружающимися против заимствования педагогических учреждений из Германии, и в особенности из Пруссии.

Ф. Зондерланд ― Смешные арестанты
Для г. Баха и других писателей того же рода непонятны также то упорство и та медленность, с которыми англичане и отчасти американцы допускают педагогические нововведения из Германии. Замечательно, говорит г. Бах в своём подробном отчёте об европейском воспитании, что то, что является принятой системой в одной стране, рассматривается в другой как нововведение, польза которого сомнительна.
От этого Бах и другие педагогические писатели, изучавшие Англию, удивляются, почему в такой промышленной стране воспитание в публичных школах имеет исключительно классический характер и почему схоластические школьные упражнения и вообще формы схоластического учения сохранились преимущественно посреди народа, которого деятельность имеет такое промышленное и современное направление. Они вместе с английскими демократами называют это отсталостью университетов и публичных школ, которые, по их мнению, должны изменить совершенно своё направление и удовлетворять современным потребностям человека.
Но такие писатели забывают, что классическая литература и схоластика развивают в истории именно ту душевную способность человечества, сильное развитие которой составляет самую характеристическую черту английского народа, — развивают рассудок.
Выставив все странные и смешные стороны схоластических упражнений, г. Вольфарт в своей неоконченной «Истории воспитания» говорит: «Во всяком случае, схоластика, под которой мы разумеем философию средних веков, начиная от IX до XVI века, была проявлением наступившего рассудочного развития в образовании германских народов, и тот мало знаком с ней, кто не признаёт, что в ней появляются такие люди, как Скотус Эригена, Ансельм, Росцелин, Абелард, Александр Галль, Альберт Великий, Фома Аквинский, Оккам и мн. др., которые бы сделали честь обществу мыслителей каждого столетия» (Geschichte des gesammten Erziehungs-und Schulwesens, von Dr. Wohlfarth. Leipzig, 1854. 2-ter Band. S. 319).
Но нам кажется, что г. Вольфарт мало ещё признал педагогическую важность схоластики. Он называет её в другом месте пустой степью в истории воспитания, хотя и сознаёт, что в этой степи хранились многие семена, принёсшие плоды впоследствии, и что диалектическое упражнение рассудка, соединившись с возрождением наук в XVI столетии, имело большое и благодетельное влияние на развитие науки и воспитание (там же. С. 321).
Мы же можем прибавить к этому, что громадное множество схоластических упражнений, ничтожных и часто смешных по содержанию, что все эти странные, дикие рассудку* задачи имели большое влияние на подготовление остроумия, верности и силы рассудка, которые выказались потом в Декарте и Бэконе. Не трудно видеть, что сам всеобъемлющий гений Бэкона есть не более, как высочайшая степень развития рассудка, и что в этом отношении Бэкон является последним схоластиком и самым национальным философом Британии.
*Как, например: как тяжела была палица Геркулеса? Что пели сирены? Которой ногой ступил Эней, выходя на твёрдую землю? Один учёный рассуждает, что такое было золотые яблоки гесперидских садов, и доказывает, что это были померанцы, другой называет их лимонами. Апинус пишет диссертацию о том, справедливо ли резать уши собакам, а Гросс — какого роста был Адам. Писали стихи, в которых не было буквы «р», а один голландец высчитал, что в Библии 3556480 слов, союз «и» повторяется 42227 раз, и т. п. Беспрестанно трудились над анаграммами, хронодистихами, акростихами. Менот доказывал, что танцы — адское изобретение и что каждый скачок есть скачок в ад, и т. п. (Wohlfarth. Geschichte des Erziehungs-und Schulwesens. S. 315, 316, 317).
Но если Бах, являющийся представителем целой партии североамериканских педагогов, восхищается германской системой общественного образования, зато шведский писатель г. Сильестрём, о котором мы уже говорили, выставляет североамериканское образование как образец для Германии и Швеции. Он изучает его, кажется, с той же целью, с которой Тацит описывал нравы германцев, и горько жалуется на недостатки немецкой системы.
Глядя со стороны на это странное явление, невольно приходим к той мысли, что если бы все эти педагогические писатели различных наций сошлись вместе, как сходятся сочинения их на нашем столе, то они пришли бы к тому убеждению, что система общественного образования у каждого народа запечатлена его характером и отражает достоинства и недостатки этого характера, которые иногда так соединены между собой, что их разделить невозможно. Одно и то же народное свойство является то достоинством, то недостатком, смотря по той сфере, в которой оно отражается. Мы видели это уже по отношению к философскому направлению Германии: упругость английского характера, американская стремительность, французская живость представляют нам то же самое явление. А потому хвалить или порицать безусловно систему общественного образования того или другого народа и брать её за образец, достойный подражания, всё равно что хвалить или порицать безусловно народный характер и стараться подражать ему.
Нам кажется, что мы достаточно показали, что общей системы общественного воспитания не существует в настоящее время ни в теории, ни на практике, и что немецкая система воспитания (одна только объявлявшая претензию на всеобщность) такая же исключительная народная система, как и всякая другая, и так же верно отражает в себе народные достоинства и народные недостатки.
Но, может быть, возможно, заимствуя из каждой народной системы воспитания то, что достойно в ней подражания, составить одну, общую, совершеннейшую? Может быть, возможно занять у немцев богатство их учёного и философского развития, у англичан — способность образовывать силу рассудка и характера, у французов — их умение передавать технические познания, у американцев — их государственное понятие об общественном образовании и ту быстроту, с которой они следят за общим прогрессом, и из всех различных сторон одного понятия создать такую систему воспитания, которая бы, достигая всех этих целей, достигла в своей деятельности высшего идеала человеческого совершенства?
Смело можно утверждать, что такая система воспитания, если бы она была возможна, оказалась бы бессильнее всех исключительных народных систем и её влияние на общественное развитие народа было бы в высшей степени ничтожно. Ни один народ, конечно, не отказывается сознательно от тех или других достоинств воспитания и не вносит в него сознательно своих недостатков. Каждый старается сделать своё воспитание по возможности совершенным, но народность сама одолевает: она парализует одни стремления, выдвигает вперёд другие и переделывает по-своему универсальные планы воспитания.
Причина такого явления весьма понятна.
Школьное воспитание далеко не составляет всего воспитания народа. Религия, природа, семейство, предания, поэзия, законы, промышленность, литература — всё, из чего слагается историческая жизнь народа, составляет его действительную школу, перед силой которой сила учебных заведений, особенно построенных на началах искусственных, совершенно ничтожна. Невозможно так изолировать воспитание, чтобы окружающая его со всех сторон жизнь не имела на него влияния. Она постоянно будет вносить свои убеждения и в учителей, и в учеников, придавать особенный оттенок лекциям первых и давать направление восприимчивости вторых. Если же что-нибудь несогласное с общественной жизнью и успеет укорениться в молодом сердце, то и это немногое за дверями школы быстро изгладится.
Но этого мало. Воспитание, построенное на абстрактных или иностранных началах (что всё равно, потому что всякая иностранная система может быть приложена к другому народу только во имя рациональности), будет действовать на развитие характера гораздо слабее, чем система, созданная самим народом. Чтобы убедиться в необходимости этого факта, стоит только ясно представить себе, что такое характер и как действует на него воспитание, но по этому предмету мы находим необходимым войти в некоторые подробности.
Глава VII. Характер. Его элементы. Наследственность темпераментов. Влияние жизни и воспитания на характер. Элемент народности в характере человека
Чтобы отыскать черту национальности в характере человека, оценить её силу, определить её значение для воспитания, мы позволим себе высказать несколько заметок вообще о характере и о том, как он образуется в человеке.
Характер каждого человека слагается всегда из двух элементов: природного, коренящегося в телесном организме человека, и духовного, вырабатывающегося в жизни, под влиянием воспитания и обстоятельств. Оба эти элемента не остаются между собой изолированными (это было бы бесхарактерностью), но взаимно действуют друг на друга, и из этого взаимного воздействия прирождённых наклонностей и приобретаемых в жизни убеждений и привычек возникает характер. Самое убеждение тогда только делается элементом характера, когда переходит в привычку. Привычка именно и есть тот процесс, посредством которого убеждение делается наклонностью и мысль переходит в дело.
Природа, следуя своим неизменным и непостигнутым ещё законам, повторяет в детях телесный организм отца и матери в разнообразнейших комбинациях. И хотя наука различила только три или четыре темперамента, но это не более, как типы, никогда не встречающиеся в свой чистоте, но в бесконечном множестве разнообразнейших смешений. Как нет двух листьев на дереве, совершенно сходных между собой, так нет двух людей, природные темпераменты которых были бы совершенно сходны.
Никто, конечно, не станет оспаривать, что особенность темперамента каждого человека имеет влияние на образование его характера. Влияние это выражается в так называемых природных наклонностях, которые делают одни действия для человека лёгкими и приятными, другие — тяжёлыми и неприятными. Кто из нас не испытал на себе или не замечал на других влияния природных наклонностей? Как легки для нас те действия, в которых наши желания и наши природные влечения сходятся! Такие действия отличаются необыкновенной силой, настойчивостью. В них тело помогает душе, часто ведет её за собой, понимает её на первом слове и всегда отвечает ей охотно и быстро. Но если мы идём против наших природных наклонностей, как ленив, неповоротлив и упрям делается наш организм!

И. Таанман — Когда учитель отвернулся
Только долговременная привычка может заставить его повиноваться нашим требованиям с той же быстротой, с которой вследствие той же привычки пальцы музыканта повинуются нотам, раскрытым перед его глазами. В этой борьбе убеждений, приносимых жизнью, с нашими прирождёнными, или, что всё равно, телесными, наклонностями, в которой победа остаётся то на той, то на другой стороне, образуется наш характер.
Но если телесная сторона характера имеет влияние на определение духовной его стороны, то и духовная также может изменить телесную. Убеждение, переходя в постоянное правило для действий и наконец становясь привычкой, необходимо производит изменение в нашем телесном организме.
Мы не говорим здесь о тех грубых изменениях, которые кидаются в глаза с первого взгляда и особенно заметны в ремесленниках. Эти изменения поверхностны, редко отражаются в характере и никогда не переходят в организм новых поколений. Для нас важны здесь те едва уловимые чёрточки физиономии человека, мимолётные движения его мимики, едва слышные тоны его голоса, которыми так дорожит истинный физиономист и которые все вместе придают духовный характер наружности человека. Грубые пластические черты лица ничего не значат во внешнем выражении характера. Вся идея его выражается в массе тех оттенков, которые поодиночке едва заметны, но которые все вместе производят сильное и почти всегда верное впечатление при первом взгляде на человека. Если мы не всегда можем дать себе отчёт в этом впечатлении, если мы часто объясняем его себе неправильно, то это ещё не значит, чтобы оно само в себе было неверно*.
*Часто впоследствии, узнав человека ближе, мы сознаём верность первого впечатления, если только оно не было совершенно испорчено каким-нибудь предубеждением.
Не нужно иметь много наблюдательности, чтобы убедиться, что духовное развитие отражается в наружности человека. Всмотритесь в самое прекрасное лицо дикаря, в выражение его чувств, в его мимику, движения, походку, вслушайтесь в его смех, в тоны его голоса, и вы увидите, что это неразработанная, хотя, может быть, и богатая почва, грубая, хотя, может быть, и прекрасная кора, через которую не пробился ещё дух. «Душа ещё не выглянула в глаза и не смотрится в них» — по выражению поэта, не совершенно, впрочем, верному. Образуйте самого этого дикаря, и наружность его примет другой характер. Если же образование будет последовательно трудиться над ним, его детьми и внуками, то его влияние будет ещё заметнее: наружность целого племени будет разрабатываться последовательно.
Но не одно умственное развитие отражается в наружности человека — нравственная сторона его души также ищет высказаться в теле. Кто не замечал, какое иногда страшное изменение происходит в наружности человека под влиянием безнравственной жизни? Многим, вероятно, удавалось на своём веку видеть примеры, как постоянная привычка унижаться и подличать превращала мало-помалу самое прекрасное лицо в отвратительную вывеску душевной низости. Всякая новая низость, всякая взятка, например, записывалась в нём новой чертой. Никакой лоск благоприличия, никакая мягкость манер, никакая светскость не закроет этих чёрточек: рано или поздно они пробьются наружу, хотя и не всякий, может быть, прочтёт то, что написано в них природой.
Образ мыслей человека, образ его действий, привычки, приобретённые им в жизни, его умственное и нравственное развитие — всё, что определяется воспитанием и жизнью в обществе, изменяя духовную сторону характера, отражается в его телесной стороне, и, таким образом, идея характера начертывается в наружности. Эту-то идею схватывает талантливый живописец, умеющий найти и передать на полотно типическую черту характера, отличить существенное от случайного. Бессмысленная копировка физиономии, хоть будь она сделана дагерротипом, никогда в этом отношении не заменит живописи. Гений художника умеет выдвинуть на первый план именно ту черту физиономии, которая составляет типическую особенность лица. Хороший портрет не только передаёт характер человека, но часто объясняет смысл этого характера для непривычного глаза, который путается во множестве случайных и искусственных черт подлинника.

Г. Браун — Девушка, пишущая письмо
Труднее убедиться в том, что эти черты наружности, приобретаемые человеком в жизни, переходят наследственно к его детям при самом рождении. Повторение их в детях — факт неоспоримый, но этот факт можно объяснить силой впечатлений, получаемых душой ребёнка в семействе и потом уже отражающихся в его наружности. Но, признавая всю силу первых впечатлений, мы, однако же, признаём возможность передачи таких характеристических черт и непосредственно через рождение.
Кому покажется такое убеждение лишённым основания, тому мы укажем на другой факт, слишком известный и слишком очевидный для того, чтобы в нём можно было сомневаться.
Кто не знает, какие иногда странные знаки появляются на теле ребёнка под влиянием глубокого душевного потрясения, испытанного матерью во время беременности? Этого не могло бы случиться, если бы это душевное потрясение не производило хотя временного изменения в организме матери, довольно сильного для того, чтобы оно могло отразиться в организме ребёнка. Эта передача бывает иногда так верна, что в форме родимого пятна отражается форма впечатления, принятого матерью. Но если минутное впечатление производит такое влияние на организм, то почему же, например, постоянная победа человека над своими дурными наклонностями или постоянная торговля его с своей собственной совестью не может произвести в его организме менее заметных, но зато более постоянных и глубоких изменений? Почему, наконец, эти изменения не будут передаваться детям, наследующим организм своих родителей?
Замечательно и то явление, что мелкие и характеристические черты наружности родителей — улыбка, взгляд, смех, мимика, движения, тон голоса, походка, вообще все черты, так много зависящие от воспитания, образа мыслей и действий, чаще передаются детям, чем грубые особенности лица и тела, которые кидаются в глаза первые, но, будучи случайными, не выражают характера человека. Грубые телесные повреждения также никогда не повторяются в организме детей; между тем мы не можем не признать наследственности многих болезней, причины которых скрыты глубоко от глаз человека: сумасшествия, каталепсии, наклонности к пьянству и пр. Часто в ребёнке, у которого цвет волос, глаз, лица совершенно другие, чем у родителей, мы находим поразительное сходство с отцом или матерью, а иногда с тем и другим вместе, и притом так, что один и тот же человек, в молодости похожий более на мать, в зрелом возрасте походит на отца и под старость опять начинает походить на того, на кого походил ребёнком. Жизнь своим влиянием как будто вызывает наружу то те, то другие черты бесконечно глубокого создания природы и постепенно раскрывает его богатое содержание.

А. Эберле — На уроке естествознания
Природа в этом случае является гениальным портретистом и, отбрасывая случайности, схватывает мелкую, но типическую черту потому именно, что корень этой черты лежит глубже, в организме человека. Она только никогда не бросает своей кисти, и портрет её живёт и развивается, как сама жизнь. Под старость уже миллионы черт пестрят этот образ, вначале едва набросанный, и только смерть останавливает руку великого художника*.
*Замечательно также, что ребёнок похож иногда на деда или дядю, хотя черты их вовсе не были приметны в отце и матери; так природа иногда в ребёнке выводит наружу черты, скрытые от глаз в организме его родителей. Всё это такие факты, о которых стоит подумать и на которые до сих пор весьма мало обращали внимания физиологи и психологи.
Здесь не место, конечно, вдаваться в более подробные физиологические наблюдения, но мы не извиняемся перед читателем, что, говоря о педагогике, забрались в физиологию. Физиология и психология или, пожалуй, антропология идут рука об руку, и обе составляют или, по крайней мере, должны составлять основу искусства воспитания, которое, по выражению Песталоцци, берёт человека всего, его тело и его душу.
Таким образом, организм родителей со всеми его характеристическими прирождёнными особенностями и со всеми изменениями, внесёнными в него духовной жизнью человека, в разнообразнейших комбинациях передаётся детям и составляет для них весь объём прирождённых наклонностей. Жизнь ребёнка в семье, где раскрывающаяся душа его получает первые и самые сильные впечатления, только развивает далее врождённые задатки характера. Кто не знает, как сильно действует на характер ребёнка пример и влияние родителей, тем более что этот пример и влияние находят уже подготовленную для себя почву?
Но сознание проясняется, воля показывается, религия и воспитание приходят на помощь, и новая борьба разумной жизни с тёмной бездной природы начинается; она происходит на том же поле, только освежённом долгой зимой; приходит новая весна, и сеются вновь семена добра и истины. Почва может оказаться лучше, может оказаться и хуже прежней, засеянная плевелами прошлого года, но всё зависит от труда и лета.
Природа своими таинственными буквами записывает в теле человека всю историю его бессмертной души, и эта дивная летопись природы передаётся из поколения в поколение, от отцов к детям, внукам и правнукам, разнообразясь, развиваясь, изменяясь бесконечно под влиянием жизни человека в истории*.

А. Гейн — Плачущий мальчик на обеде в гостиной
*Древние народы чаще нас припоминали эту истину. Наследственность характеров играет в их истории важную роль. Но должно заметить и то, что в древности прирождённые наклонности имели более, чем теперь, влияния на характер и судьбу человека. В настоящее время христианская религия и наука дают такую опору душе в её борьбе с телом, которой она прежде не имела. От этого племенные, родовые и семейные типы физиономий стали слабее. На возможности такой передачи основаны были касты Египта и Индии, поколения Персии, роды Греции, на нём же основано понятие китайцев об ответственности родителей за детей и детей за родителей.
Этим последовательным влиянием жизни на телесный организм целых поколений объясняется то явление, что в племенах полудиких, где жизнь так не развита и условия её так однообразны для всех, все физиономии похожи одна на другую и что у народов образованных, где условия воспитания и жизни различны почти для каждого, типы человеческих физиономий разнообразятся до бесконечности. Этого никогда не могло бы случиться, если бы передавался только природный организм родителей без тех черт, которые проводятся в нём жизнью.
Но как ни разнообразны человеческие типы у образованных народов вследствие бесконечного разнообразия типов родовых, семейных и личных, природа всегда успевает в бесчисленном множестве характеристических черт в наружности человека выдвинуть на первый план черту народности. Эта черта по большей части бывает так ясна, что небольшого навыка достаточно, чтобы угадать по первому взгляду француза, англичанина, итальянца, немца или русского, хотя у всех этих народов царствует бесконечное разнообразие физиономий.

М. Д. Оппенгейм — Еврейская элементарная школа
Черта национальности не только заметна сама по себе, но примешивается ко всем другим характеристическим чертам человека и сообщает каждой из них свой особенный оттенок. Наружность в этом случае может служить лучшим доказательством, что и в душе человека черта национальности коренится глубже всех прочих. В самом деле, не примешивается ли национальность почти ко всем нашим поступкам; а как богата жизнью и внутренним содержанием эта черта нашей природы! Она выдерживает напор столетий и не истощается миллионами отдельных личностей. Типические черты характера многочисленных племён, составивших государства современной Европы, прожили века, и до сих пор ещё история продолжает черпать из этого богатого источника.
Взгляните, например, как кровь одряхлевшего Рима до сих пор ещё борется с германским элементом в характере итальянцев; как древний англосаксонский характер отразился в трёх частях света; как верен остаётся себе испанец на новой американской почве; как еврей посреди самых разнообразных народностей шестнадцать столетий сохраняет свой резкий национальный тип.
Глава VIII. Воспитание и характер. Какую роль играет народность в воспитании?
Поставим же теперь воспитание лицом к лицу с многосложным организмом прирождённого характера, взлелеянного родным воздухом семейной сферы.

А. А. Красносельский — Бабушкины сказки
Здесь рождается вопрос, тоже не совсем ещё решённый: должно ли воспитание, изучив вверенный ему характер, принять его природные особенности в основание своих действий, или оно может, не обращая внимания на природные задатки, создавать по своему собственному образцу вторую природу для человека?
Выполнение первой задачи весьма трудно, а для общественного воспитания, о котором мы говорим здесь, и вовсе невозможно. Оно требует такого глубокого изучения характера каждого воспитанника и такого умения пользоваться природными наклонностями, которого никто, конечно, не станет требовать от воспитателя в общественном заведении. Лучший воспитатель, посвятивший себя всего на своё дело (а много ли таких?), подметит только немногие, более выдающиеся черты и редко доберётся до их корня.
Обыкновенно же практика образует в голове воспитателя несколько рубрик, под которые он будет потом подводить все представляющиеся ему детские характеры. «Этот мальчик туп, — говорит он, — этот мог бы заниматься, да ленив, этот со способностями, да рассеян, этот шаловлив, этот самолюбив, этот боится только наказания, этот зол, этот плакса» и т. д. Но каждая из этих черт — тупость, леность, злость и пр. — может в двух различных натурах иметь совершенно различные корни и требовать от воспитателя совершенно различных мер. Duo cum faciunt idem, non est idem, говорит латинская поговорка, и одна и та же мера может производить совершенно различные действия на две, по-видимому, сходные натуры*.
*Grundsatze der Schuldisciplin, von Zerrenner. Magdeburg, 1826. Рекомендуем эту старую, но прекрасную книгу всякому воспитателю и преподавателю, который хочет серьёзно познакомиться со своими обязанностями. Таких книг не много представляет немецкая педагогическая литература. Серый вид её да не испугает читателя!
Корень этого различия скрывается так глубоко, что для открытия его требуются целые месяцы самой острой и постоянной наблюдательности и терпения. Легко сказать воспитателю: изучайте характер ваших воспитанников, пользуйтесь их добрыми наклонностями, направляйте к добру те из них, которые, смотря по обстоятельствам, могут сделаться добрыми и дурными, и искореняйте, наконец, те, с которыми нечего более делать; но нелегко найти такого воспитателя, который бы мог выполнить эти требования в обширном общественном заведении. Такое требование может только высказываться на торжественных актах вместе с прочими фразами, не имеющими никакого практического значения, но на деле выполнение его в общественных заведениях оказывается невозможным. Все мы очень хорошо знаем, что не всякий воспитатель — Песталоцци и что известная масса воспитателей требуется для ежегодно приливающих новых поколений.

А. И. Морозов — Сельская бесплатная школа
Гораздо легче держаться одного принятого идеала воспитания и, не обращая особенного внимания на мелкие различия характера, стараться внести в них этот идеал: превратить его во вторую природу человека, искореняя всё, что с ним несогласно.
Но если выполнение второй задачи не требует такой огромной наблюдательности, какая нужна для выполнения первой, зато она представляет непреодолимые препятствия с другой стороны. Для того чтобы воспитание могло создать для человека вторую природу, необходимо, чтобы идеи этого воспитания переходили в убеждения воспитанников, убеждения — в привычки, а привычки — в наклонности. Когда убеждение так вкоренились в человеке, что он повинуется ему прежде, чем думает, что должен повиноваться, тогда только оно делается элементом его природы. Но кто не испытывал из нас на себе, как медленно и с каким трудом совершается такой процесс? Многие ли из нас могут похвалиться такой силой убеждений? По большей части убеждения, принятые нами в жизни и противоречащие нашим прирождённым наклонностям, живут в нас до самой смерти как нечто чуждое и принудительное, готовясь оставить нас при первом взрыве страсти.
Характеры, пересозданные к лучшему воспитанием и жизнью, имеют за собой великое достоинство открытия нового источника добра, но долго воды этого источника будут отзываться горечью своей неволи, и только, может быть, детям и внукам придётся черпать из него бессознательно живительную влагу. Такой характер, созданный воспитанием и жизнью, никогда не может иметь той крепости и силы, которыми отличается прирождённый характер. Кроме того, воспитание, которому остаётся только развивать благородную и добрую натуру, совершает своё дело легко, скоро и создаёт почти без труда прекрасный, цельный и вместе с тем сильный характер.
Сила характера, независимо от его содержания, — сокровище, ничем не заменимое. Она почерпается единственно из природных источников души, и воспитание должно более всего беречь эту силу как основание всякого человеческого достоинства.
Но всякая сила слепа. Она одинаково готова разрушать и творить, смотря по направлению, которое ей дано. Всё решается наклонностями человека и теми убеждениями, которые приобрели в нём силу наклонностей. Воспитание должно просветить сознание человека, чтобы перед глазами его ясно лежала дорога добра.

Но этого мало. Каждый из нас видит прямую дорогу, но многие ли могут похвалиться, что никогда не уклонялись от неё? Побеждать свои природные влечения каждую минуту — дело почти невозможное, если посреди этих влечений мы не находим себе помощника, который бы облегчал для нас победу над нашими дурными наклонностями и в то же время награждал бы нас за эту победу. К чести природы человеческой должно сказать, что нет такого сердца, в котором бы не было бескорыстно добрых побуждений, но эти побуждения так разнообразны и иногда так глубоко скрыты, что не всегда легко отыскать их. Есть одна только общая для всех прирождённая наклонность, на которую всегда может рассчитывать воспитание: это то, что мы называем народностью. Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь даёт воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями. Обращаясь к народности, воспитание всегда найдёт ответ и содействие в живом и сильном чувстве человека, которое действует гораздо сильнее убеждения, принятого одним умом, или привычки, вкоренённой страхом наказаний. Вот основание того убеждения, которое мы высказали выше, что воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным.
Чувство народности так сильно в каждом, что при общей гибели всего святого и благородного оно гибнет последнее. Взяточник, истачивающий как червь силы своей родины, сочувствует её славе и её горю. В злодее, в котором потухли все благородные человеческие чувства, можно ещё доискаться искры любви к отечеству: поля родины, её язык, её предания и жизнь никогда не теряют непостижимой власти над сердцем человека. Есть примеры ненависти к родине, но сколько любви бывает иногда в этой ненависти!
Взгляните на людей, поселившихся на чужбине, и вы убедитесь вполне, как живуча народность в теле человека. Поколения сменяют друг друга, и десятое из них не может ещё войти в живой организм народа, но остаётся в нём мёртвой вставкой. Можно позабыть имя своей родины и носить в себе её характер, пока беспрестанные приливы новой крови, наконец, не изгладят его. Так глубоко и сильно вкоренил творец элемент народности в человеке.
Удивительно ли после этого, что воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа.
Но, кроме того, только народное воспитание — это живой орган в историческом процессе народного развития.
Что бы ни говорили утописты, но народность является до сих пор единственным источником жизни народа в истории. В силу особенности своей идеи, вносимой в историю, народ в ней — историческая личность. До настоящего времени всё развитие человечества основывается на этом разделении труда, и жизнь историческая подчиняется в этом отношении общим законам организма. Каждому народу суждено играть в истории свою особую роль, и если он позабыл эту роль, то должен удалиться со сцены: он более не нужен. История не терпит повторений. Народ без народности — тело без души, которому остаётся только подвергнуться закону разложения и уничтожиться в других телах, сохранивших свою самобытность. Особенность идеи есть принцип жизни. Наука же, идеи которой общи для всех, не жизнь, а одно сознание законов жизни, и народ только тогда поступает вполне в ведение науки, когда перестаёт жить. Идея его жизни, делавшая его особым народом, поступает в общее наследство человечества, а тело его — племя, которое его составляло, потеряв свою особенность, разлагается и ассимилируется другими телами, не высказавшими ещё своей последней идеи.
Но если народность является единственным источником исторической жизни государства, то само собой разумеется, что и отдельные члены его могут почерпать силы для своей общественной деятельности только в этом источнике. Каким же образом общественное воспитание, один из важнейших процессов общественной жизни, посредством которого новые поколения связываются общей духовной жизнью с поколениями отживающими, может отказаться от народности? Неужели, воспитывая в человеке будущего члена общества, оно оставит без развития именно ту сторону его характера, которая связывает его с обществом?
Что такое вся история народа, если не процесс сознания той идеи, которая скрывается в его народности, и выражение её в исторических деяниях? Но это сознание совершается в единичных человеческих самосознаниях и, создаваясь из атомов, делается непреоборимой исторической силой. Чем сильнее в человеке народность, тем легче ему в самом себе рассмотреть её требования, и что относится к великим историческим деятелям и великим народным писателям, которые подвигают периодами народное самосознание, то может быть приложено и к каждому члену общества. Для того уже, чтобы понять великого человека или сочувствовать народному писателю, необходимо носить в самом себе зародыш народности.
Общественное воспитание, которое укрепляет и развивает в человеке народность, развивая в то же время его ум и его самосознание, могущественно содействует развитию народного самосознания вообще; оно вносит свет сознания в тайники народного характера и оказывает сильное и благодетельное влияние на развитие общества, его языка, его литературы, его законов, словом, на всю его историю.
Общественное воспитание есть для народа его семейное воспитание. В семействе природа подготовляет в организме детей возможность повторения и дальнейшего развития характера родителей.

Е. Ф. Крендовский — Портрет Александра Александровича Башилова с семьёй
Организм новых поколений в народе носит в себе возможность сохранения и дальнейшего развития исторического характера народа. Воспитанию приходится часто бороться с семейным характером человека, но его отношение к характеру народному — совершенно другое. Всякая живая историческая народность есть самое прекрасное создание Божие на земле, и воспитанию остаётся только черпать из этого богатого и чистого источника.
Но разве народность не нуждается в исправлении? Разве нет народных недостатков, как и народных достоинств? Неужели воспитание должно укоренять упорство в англичанине, тщеславие во французе и т. д.?
Прежде всего заметим, что судить о достоинствах и недостатках народа по нашим личным понятиям о качествах человека, втискивая идею народности в узкие рамки нашего идеала, никто не имеет права. Как бы высоко ни был развит отдельный человек, он всегда будет стоять ниже народа. История убеждает нас на каждом шагу, что понятия наши о достоинствах и недостатках неприложимы к целым народностям, и часто то, что кажется нам недостатком в народе, является оборотной и необходимой стороной его достоинств, условием его деятельности в истории.
Есть только один идеал совершенства, пред которым преклоняются все народности, — это идеал, представляемый нам христианством. Всё, чем человек как человек может и должен быть, выражено вполне в Божественном учении, и воспитанию остаётся только прежде всего и в основу всего вкоренить вечные истины христианства. Оно даёт жизнь и указывает высшую цель всякому воспитанию, оно же и должно служить для воспитания каждого христианского народа источником всякого света и всякой истины. Это неугасимый светоч, идущий вечно, как огненный столб в пустыне, впереди человека и народов, за ним должно стремиться развитие всякой народности и всякое истинное воспитание, идущее вместе с народностью.

М. М. Д'Альгейм — В сельской школе
Но выбрав целью нашей статьи одну народность воспитания, мы не говорим здесь о других его основах, тем более что нет надобности доказывать, что всякое европейское общественное воспитание, если захочет быть народным, то прежде всего должно быть христианским, потому что христианство, бесспорно, есть один из главнейших элементов образования у новых народов.
К этим двум основам общественного воспитания у каждого европейского народа присоединяется ещё третья, о которой также мы не будем распространяться, потому что и она не входит в область нашей статьи. Эта третья основа есть наука. Развитие сознания, без сомнения, — одна из главнейших целей воспитания, и истины науки являются орудием для этого развития.
Мы не говорим также и о технической части воспитания, которое должно дать не только знания человеку, но и умение приложить эти знания к делу, но не говорим потому, что это не было целью нашей статьи, которая посвящена одной народности.
Но что же такое народность в воспитании? На этот вопрос мы уже ответили фактами, выставив в начале нашей статьи национальные особенности общественного воспитания у главнейших народов Европы. Народная идея воспитания сознаётся тем скорее и полнее, чем более семейным делом народа является общественное воспитание, чем более занимаются им литература и общественное мнение, чем чаще вопросы его становятся доступными для всех общественными вопросами, близкими для каждого, как вопросы семейные.

Ф. М. Славянский — Семейный портрет
Педагогическая литература, педагогические общества, частые поверки результатов воспитания, путешествия, предпринимаемые с педагогическими целями, живая связь между практиками-педагогами, педагогические журналы, а более всего — тёплое участие самого общества в деле общественного воспитания могут ускорить выражение и объяснение тех требований, выполнением которых достигается народность в общественном воспитании.
Сделаем теперь общий вывод из нашей статьи и перечислим одно за другим те положения, которые мы хотели доказать:
1) Общей системы народного воспитания для всех народов не существует не только на практике, но и в теории, и германская педагогика не более чем теория немецкого воспитания.
2) У каждого народа своя особенная национальная система воспитания; а потому заимствование одним народом у другого воспитательных систем является невозможным.
3) Опыт других народов в деле воспитания есть драгоценное наследие для всех, но точно в том же смысле, в котором опыты всемирной истории принадлежат всем народам. Как нельзя жить по образцу другого народа, как бы заманчив ни был этот образец, точно так же нельзя воспитываться по чужой педагогической системе, как бы ни была она стройна и хорошо обдумана. Каждый народ в этом отношении должен пытать собственные свои силы.
4) Наука не должна быть смешиваема с воспитанием. Она обща для всех народов, но не для всех народов и не для всех людей составляет цель и результат жизни.
5) Общественное воспитание не решает само вопросов жизни и не ведёт за собой истории, но следует за ней. Не педагогика и не педагоги, но сам народ и его великие люди прокладывают дорогу в будущее: воспитание только идёт по этой дороге и, действуя заодно с другими общественными силами, помогает идти по ней отдельным личностям и новым поколениям.
6) Общественное воспитание только тогда оказывается действительным, когда его вопросы становятся общественными вопросами для всех и семейными вопросами для каждого. Система общественного воспитания, вышедшая не из общественного убеждения, как бы хитро она ни была обдумана, окажется бессильной и не будет действовать ни на личный характер человека, ни на характер общества. Она может приготовлять техников, но никогда не будет воспитывать полезных и деятельных членов общества, и если они будут появляться, то независимо от воспитания.
7) Возбуждение общественного мнения в деле воспитания есть единственно прочная основа всяких улучшений по этой части: где нет общественного мнения о воспитании, там нет и общественного воспитания, хотя может быть множество общественных учебных заведений.
Насколько мы доказали каждое из этих положений, предоставляем судить другим; мы желали только предложить вопросы и будем считать себя счастливыми, если эти вопросы вызовут мнения других.
