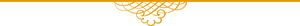Литургические гимны нельзя отнести к какому-либо известному нам виду искусства. Это особая поэзия, которая отличается от поэзии мирской — лирики, эпоса и драм — не только содержанием, но и формой, и языком. В священной поэзии отсутствуют яркие, как бы кричащие краски. Там нет эмоциональных взрывов, лирической грусти или натурализма в изображении человеческих страданий и царящего в мире демонического зла. Круг её изобразительных средств сознательно ограничен, в ней нет того, что мы назвали бы эстетизмом. Эта поэзия не даёт человеку душевного наслаждения. В ней отсутствует, из неё как бы вычеркнуто и выброшено всё то, что делает привлекательной и чарующей поэзию мирскую: отсутствуют душевно-ассоциативные связи, неожиданные сравнения и метафоры, которые являются скрытыми парадоксами поэзии, страстные и яркие образы, от которых душа напрягается, как струны скрипки, во внезапном порыве чувств. Здесь нет эмоциональной горячности и поэтических восторгов, которые на самом деле представляют собой голос плоти и крови. Здесь душа не отдаётся безвольно, как убаюканный ребёнок, музыке ритмов и созвучия рифм.
Неверующему человеку эта поэзия чужда, она не вызывает отголосков в его душе, он, и слушая, не слышит её. Для него она сливается, как звуки прибоя, в монотонный гул. Человек, недавно пришедший в Церковь, тоже вначале не понимает, а вернее, не может включиться в церковные гимны; только отдельные фразы, образы и сравнения остаются в его сознании, но он чувствует силу, заключённую в них. Ему часто кажется, что непонимание происходит от архаичности богослужебного языка, но на самом же деле здесь другое: для молитвы требуется созерцание, концентрация, то, к чему современный человек не привык. Но проходит время, и эти песнопения становятся для его души всё более родными, как будто всё чаще пробивается свет через разводье облаков. Хотя он ещё не включился в литургические песнопения на уровне сознания, но его душа чувствует новую жизнь в этих пока не совсем понятных словах, и по временам он наполняется особенным чувством умиления и радости, той чистой радости, которую мы испытывали когда-то в далёком детстве. Слова песнопений кажутся ему нежными лепестками цветов, запаха которых он пока ещё не может ощутить, тихими струями прозрачной воды, омывающими его душу, или снежинками, которые, как белые звёздочки, падают с неба и покрывают грязь земли и грязь человеческих грехов своим сверкающим одеянием.
Красоту духовной поэзии может увидеть лишь тот, у кого открылось таинственное око сердца, у кого пробуждён дух и укрощены, как дикие звери, страсти; скажем по-другому: у кого глаза души омыты слезами покаяния. Это поэзия молитвы, она — достояние духа, она познаётся в безмолвии и созерцании. Душа, которая ищет разнообразия внешних впечатлений, которая ищет театральных эффектов для удовлетворения своих страстей, не может почувствовать и понять красоту церковных песнопений, услышать в них тихий голос благодати. Для неё они так и останутся закрытой книгой.
Люди, погружённые в страсти, не найдут в богослужебных текстах того, что могло бы возбудить их эмоции, дать пищу аналитическому уму. Сравнивая церковные гимны с поэзией Шекспира и Данте, они увидят здесь лаконизм языка, который покажется им эмоциональной сухостью, и строгое ограничение выразительных средств, которое воспримут как бедность воображения и однообразие. Догматы веры, которыми насыщены богослужебные тексты, кажутся мирским людям повторением уже известного, почти тавтологией. Гимнограф как бы стоит над земными событиями, рисует их не сочными, яркими красками, а тонкими и точными линиями пера, он как бы только касается их, чтобы показать скрытую под ними метафизическую сущность. Трагизм песнопений, посвящённых подвигам мучеников, лишён каких-либо внешних эффектов или душевного надрыва, в них главное — сама идея мученичества как свидетельства об истине.
В канонах и акафистах Божией Матери использованы многие прообразовательные символы и метафоры, но эти символы в своей мистической глубине остаются непонятными для ума и чуждыми сердцу душевного человека. Они не воспринимаются в едином ассоциативном поле с именем Девы Марии, а звучат обособленно и отчуждённо. Такие люди могут говорить о Божией Матери земным, душевным языком. Для них стихи о Деве Марии Метерлинка, Бунина, Пастернака роднее и ближе, чем каноны преподобных Космы Маиумского и Феофана Начертанного.
Церковные гимны — прежде всего молитва, которая требует сосредоточения мысли. Здесь многочисленность образов, обилие информации, оригинальность сравнений, как ковёр, вышитый яркими цветами, только оземлили, отяготили, рассредоточили бы молитву, перевели бы её в другой, низший план — театрального монолога. Духовная красота — это не эстетизм и космофилия, а вИдение, как бы прозрение духовного мира через прозрение человека. Молитвенное слово, теряя внешнюю экспрессию, приобретает духовную глубину. Видимое внешнее однообразие священных канонов, которое представляется плотскому уму вариантами одной и той же мелодии, открывается духовному взору как небо — единое и вечно новое, неисчерпаемое в своих глубинах.
Через слова гимнов душа верующего человека соприкасается с духовным миром и познаёт то, что выше слова и глубже чувств. Область душевного разума — воображение и анализ, духовного — созерцание и непосредственное проникновение в сущность явлений. Лаконичность языка и частые повторения в гимнах держат ум в едином поле созерцания. В мирской поэзии звучат все краски палитры, в духовной нет ярких цветов, там прозрачность: цвета воспринимались бы как пестрота. Данте, Шекспир, Мильтон создают огромные полотна для своих картин, их поэмы и драмы похожи на замки, построенные искусными архитекторами. Кажется, что эпохи и народы поместились бы в них. Исихасты сжимают свою мысль до нескольких слов молитвы, но эти слова низводят само небо в сердце человека, небо, заключённое в одном луче благодати, необъятное небо, в котором земля и звёзды — только кружащиеся в вихре пылинки. В церковных песнопениях — высшая красота, но не в сочетании слов, а в отблеске Божества, красота, в свете которой сама душа человека раскрывается как тайна вечности.